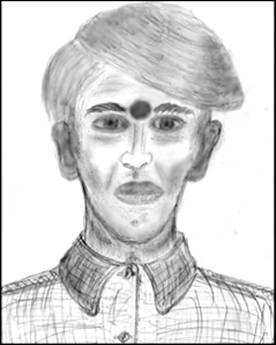–І—Г—Е–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ, —З–∞—Б—В—М —В—А–µ—В—М—П
–І—Г—Е–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ, —З–∞—Б—В—М –њ–µ—А–≤–∞—П
–І—Г—Е–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ, —З–∞—Б—В—М –≤—В–Њ—А–∞—П
–Я–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П
–Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ–µ,
–Я–∞–љ–∞—А–Є–љ–Њ–є
–Ь–∞—А–Є–Є –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–Њ–≤–љ–µ.
–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—П
–љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—П
–Т —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ –І—Г—Е–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –ґ–Є–ї–∞ —Г –љ–∞—Б –Њ–і–љ–∞ —Б–µ–Љ—М—П. –Ш –±—Л–ї–Њ
–≤
—Н—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ –і–≤–Њ–µ –і–µ—В–µ–є: –Ю–ї—М–≥–∞ –Є –®—Г—А–Є–Ї. –Ь–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –і—А—Г–ґ–Є–ї–∞ —Б —Н—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М—С–є, –∞ —П
–і—А—Г–ґ–Є–ї —Б –®—Г—А–Є–Ї–Њ–Љ. –Ф—П–і—П –Я–µ—В—П, –≥–ї–∞–≤–∞ —Б–µ–Љ—М–Є, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ 48-–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ
—А–∞–Ј–љ–Њ—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ.
–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—А–∞–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є–ї–∞, –љ–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –ї–Њ–Љ–∞—В—М,
—З—В–Њ–±—Л
–љ–∞ —А–∞—Б—З–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–Њ–≤–Њ–µ. –° –і—П–і–µ–є –Я–µ—В–µ–є –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і
—Б–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –њ—А–µ–ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є.
–Я—А–Є—И—С–ї –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і –Ј–∞–Ї–∞–Ј –љ–∞ —Б–љ–Њ—Б —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–∞ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ
–Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Л. –Ч–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї –Є–Љ–µ–ї –≤
–љ–∞—И–µ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–∞–±—А–Є–Ї, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Г —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є
–∞—А–Љ–Є–Є –Є –і–≤–Њ—А—Г –Х–≥–Њ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ч–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–≥–∞—В, –Ї–∞–Ї
–њ–Є—Б–∞–ї–Њ—Б—М
—В–Њ–≥–і–∞ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е. –Ю–љ –і–µ–ї–∞–ї –і–Њ–±—А–Њ—В–љ—Л–µ —В–Ї–∞–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞—А–∞—Б—Е–≤–∞—В –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є
–†–Њ—Б—Б–Є. –Ш–Љ–µ–ї —В–Њ—В –Ј–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Г—О —Г—Б–∞–і—М–±—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є
—Б–Є–ї—М–љ–Њ
–Њ–±–≤–µ—В—И–∞–ї–∞. –Х–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–Љ, –і–Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –µ–Љ—Г –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г, –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ –Є–Ј
–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞ —Б —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ–Є —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є, –і–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є –і–Њ –Љ–µ—В—А–∞. –°—В–Њ—П–ї –±—Л
—Н—В–Њ—В –і–Њ–Љ –µ—Й—С –і–Њ–±—А—Л—Е —Б–Њ—В–љ—О –ї–µ—В, –∞–љ –љ–µ—В: —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–Љ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є –Є
—А–µ—И–Є–ї–Є
–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П —Б –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г
–ґ–µ
—Н—В–Њ—В –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї –љ–µ –≤–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є
–ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В.
–Э–∞ —Б–љ–Њ—Б –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ—Г —А–∞–±–Њ—З–Є—Е —Б 48-–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞,
–≥–і–µ
—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і—П–і—П –Я–µ—В—П. –Т —Н—В—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г –≤–Њ—И—С–ї –Є –Њ–љ. –° —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–є –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ
–њ–ї–Њ—Е–Њ–≤–∞—В–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ —Б–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ї—Г–≤–∞–ї–і–∞–Љ–Є. –Ф—П–і—П –Я–µ—В—П –±—Л–ї –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–Њ–є
—Б
–Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞–Љ–Є –У–µ—А–Ї—Г–ї–µ—Б–∞, –љ–Њ —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї—Г–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–∞. –Ю–љ –ї–Є—Е–Њ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є
–±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є —А–∞–Ј–і–Њ–ї–±–∞–ї —В–Њ–ї—Б—В—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Л–њ–Є–ї–Є
–±—Г—В—Л–ї–Њ–Ї
–≤–Њ–і–Ї–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–і—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї, –љ–Њ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е —А–∞–±–Њ—В—П–≥ –њ–Њ–і—Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є
–Є–Ј
–љ–Є—Е –њ—А–Є–љ—С—Б –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Н—В–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –њ–Њ —В—П–ґ—С–ї–Њ–є –±–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–µ, –Њ—В–ї–Є—В–Њ–є –Є–Ј
–Љ–µ–і–Є. –С–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–Є –≤—Л–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–є –Є–Љ–Є —Б—В–µ–љ—Л, –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–і–∞—А–Є–≤
–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ
–Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П–Љ. –С–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–Є –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Ї–Є—А–њ–Є—З, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ґ –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М
—В—П–ґ–µ–ї—Л. –≠—В–∞–Ї–Є–µ —В—С–Љ–љ–Њ-–Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–µ, —А–Њ–≤–љ–µ–љ—М–Ї–Є–µ, –≤—Б–µ –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ. –Ю—З–µ–љ—М —Г–і–Њ–±–љ—Л
–±—Л–ї–Є
—Н—В–Є –±–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–Є –і–ї—П –≤—Л–њ—А—П–Љ–ї–µ–љ–Є—П –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–є –њ—А–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ —Б–∞—А–∞–µ–≤.
–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ—А–Є–љ—С—Б –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —В–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–µ –Ї —Б–µ–±–µ
–і–Њ–Љ–Њ–є –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї –µ—С –Ї—В–Њ –≤ —Б–∞—А–∞–є, –Ї—В–Њ –њ–Њ–і –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М, –∞ –Ї—В–Њ –Є –≤ —Б–∞–і –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–Њ–Љ.
–С–Њ–ї–≤–∞–љ–Њ–Ї –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –±–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є
–≤—Л–≤–Њ–Ј–Є—В—М—Б—П
–≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ—Г—Б–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї—Г.
–Э–Њ, —В—Г—В –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Є –±–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–Є –љ–µ –Є–Ј –Љ–µ–і–Є, –∞ –Є–Ј
—З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —З–µ—А–≤–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –≠—В–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї–µ, –≥–і–µ –љ–∞ –љ–Є—Е
–љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М —Г—В–Є–ї—М—Й–Є–Ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї–∞—В–Њ–Ї
—Г—В–Є–ї—М—Б—Л—А—М—П,
–Ї—Г–і–∞ –љ–∞—А–Њ–і —Б—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞–ї –≤—Б—С –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ, –Љ–µ–і—М, –ї–∞—В—Г–љ—М, —З—Г–≥—Г–љ –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –Ч–∞ —Н—В–Њ—В
–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —Е–Њ—В—М –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ, –љ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є.
–°–±–Њ—А–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–ї–Њ–Љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Є –Љ—Л, –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є.
–Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –њ–∞–ї–∞—В–Ї–µ —Г—В–Є–ї—М—Б—Л—А—М—П
–њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –±–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–Є, - —Н—В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Э–Ъ–Т–Ф.
–Ы—О–і–Є
–≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е —А–∞–±–Њ—В—П–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–љ–Њ—Б
—Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–∞.
–Я—А–Є—И–ї–Є –Є –Ї –і—П–і–µ –Я–µ—В–µ, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В:
- –Э–∞ —Б–љ–Њ—Б–µ
—Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є?
- –Р –Ї–∞–Ї –ґ–µ,
- –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –і—П–і—П –Я–µ—В—П, - —А–∞–±–Њ—В–∞–ї. –Ч–∞ —Г–і–∞—А–љ—Л–є
—В—А—Г–і –≤—Б–µ–є –љ–∞—И–µ–є –±—А–Є–≥–∞–і–µ –≤—Л–њ–Є—Б–∞–ї–Є –њ—А–µ–Љ–Є—О. –Р –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–µ–Љ—Г –њ—А–Є –Њ–±–≤–∞–ї–µ –Љ–µ–і–љ—Л–Љ–Є
—З—Г—И–Ї–∞–Љ–Є, –і–∞–ї–Є –њ—Г—В—С–≤–Ї—Г –≤ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–є.
- –Р —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–±—Л–ї–Њ
—Н—В–Є—Е —З—Г—И–Њ–Ї, –љ–µ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ?
- –Р —З—С—А—В –Є—Е
–Ј–љ–∞–µ—В,
—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ! –Ь—Л –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є. –®—В—Г–Ї 20, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Є –±—Л–ї–Њ. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –≤—Б–µ
—В—А–Є–і—Ж–∞—В—М.
- –Р –љ–µ
–њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ
–ї–Є –Т—Л, –Ї–∞–Ї —Н—В–Є —З—Г—И–Ї–Є –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є?
- –Р —З—В–Њ —В—Г—В
–њ—А–Є–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Є–Љ –і—П–і—П –Я–µ—В—П. - –Я–Њ–є–і—С–Љ –≤ —Б–∞—А–∞–є, —П –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е
–њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є–ї,
- —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–љ–∞ —Г–і–Њ–±–љ–∞ –њ—А–Є –≤—Л–њ—А—П–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–є. –Ю—В–ї–Є—З–љ–∞—П –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ—П!
–Я–Њ—И–ї–Є. –Т —Г–≥–ї—Г
–і—А–Њ–≤—П–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞—А–∞—П, –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Й–µ–Ї–Њ–ї–і—Г, –љ–∞—И–ї–Є –љ–∞ –≤–Є–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —Б–ї–Є—В–Њ–Ї
–≤
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ —Б–Њ —Б–ї–µ–і–∞–Љ–Є –≤—Л–њ—А—П–Љ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–є.
–Ф—П–і—О –Я–µ—В—О –Ј–∞–±—А–∞–ї–Є –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Ї—Г 38, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—Л–ї
–њ—А–Є—З–∞—Б—В–µ–љ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О. –Ґ–∞–Љ –Є—Е –і–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –≤ –Ґ–∞–≥–∞–љ—Б–Ї—Г—О
—В—О—А—М–Љ—Г. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –ґ–µ–љ–∞ –і—П–і–Є –Я–µ—В–Є –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ —В—Г–і–∞ –µ–Љ—Г —Б–Ї—Г–і–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є.
–Ґ–∞–Ї
–Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –±–Њ–ї–≤–∞–љ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —Д–Њ–љ–і —Б—В—А–∞–љ—Л, —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ
–љ–∞—И–ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ј–ї–Њ–≥–Њ —Г–Љ—Л—Б–ї–∞, –Є –≤—Б–µ—Е –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А
—Г
–і—П–і–Є –Я–µ—В–Є —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—И–µ–є –±–µ–і–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є:
- –Я–µ—В—А–Њ!
–†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є-–Ї–∞ –љ–∞–Љ, –Ї–∞–Ї —В—Л –≤—Л–њ—А—П–Љ–ї—П–ї –≥–≤–Њ–Ј–і–Є –љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–µ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б–∞—А–∞–µ.
–Ф—П–і—П –Я–µ—В—П —Е–Љ—Л–Ї–∞–ї, —З–µ—Б–∞–ї –≤ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–µ –Є –≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї, –і—Л—И–∞
–њ–µ—А–µ–≥–∞—А–Њ–Љ:
- –Ъ—В–Њ –±—Л –Љ–Њ–≥
–њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М,
—З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ? –Х—Б–ї–Є –± —П –Ј–љ–∞–ї, —В–Њ –њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є–ї –±—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Є—В–Ї–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–µ—В,
–Њ–і–Є–љ
–±—Л –Є –њ—А–Є–њ—А—П—В–∞–ї, - —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А—П–і –ї–Є - –Ј–∞—Б—Г–і—П—В. –°–ї–∞–≤–∞ –±–Њ–≥—Г, —З—В–Њ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є, -
–≤–µ–і—М —Г
–Љ–µ–љ—П —А–µ–±—П—В–Є—И–Ї–Є.
–Ь–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –≤ —Б–∞—А–∞–µ
–Ц–Є–ї–∞ –љ–∞—И–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞ –≤ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –љ–Є—Й–µ—В–µ –Є –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ. –Т —В–Њ
–≤—А–µ–Љ—П
–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї–Є, –љ–Њ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ы–Њ–Љ–∞–ї–Є
–±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ,
–±–Њ—А—П—Б—М —Б –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Р—В–µ–Є–Ј–Љ —Б—В–∞–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–Т–Ј—А—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤ –Є—Е –≤–Є–і–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ
–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Я—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є, –±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л, - –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л
–≤–µ—А—Л,
–љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М
—Б–њ–∞—Б—В–Є...
–Э–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —Б –љ–∞–Љ–Є —Г–ї–Є—Ж–µ, –≤ —В–Є–њ–Њ–≤–Њ–Љ –±–∞—А–∞–Ї–µ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ
–њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞—О—Й–µ–Љ –≤ –і–Њ–ґ–і–Є, —В–Є—Е–Њ –Њ–±–Є—В–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –±–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–ї—М–љ–∞—П —Б–µ–Љ—М—П. –Ю—В–µ—Ж —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞,
–±—Л–≤—И–Є–є –њ–Њ–њ, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л —Г–Љ–µ—А. –Х–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞, - –њ–Њ–њ–∞–і—М—П, - –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ
–њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–∞
—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞. –Ю—Б–Є—А–Њ—В–µ–≤—И–Є–є —Б—Л–љ –Є—Е, –≤ –і—Г—Е–µ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї
–≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї. –С—Л–ї –Њ–љ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ,
–∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –≤–Њ–ґ–∞–Ї–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є
–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –∞ —З—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –њ–∞—А—В–Є—О. –Ц–Є–ї –Њ–љ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ, –љ–∞ –Њ–і–љ—Г —Б–≤–Њ—О
–Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Г, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П. –С—Л–ї —Г –љ–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є —Г –≤—Б–µ—Е, —Б–∞—А–∞–є. –С–Њ–ї—М—И–Њ–є
—В–∞–Ї–Њ–є
—Б–∞—А–∞–є, –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є. –Т —Б–∞—А–∞–µ –Њ–љ —Е—А–∞–љ–Є–ї –і—А–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Є –Њ–±–Њ–≥—А–µ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г
–Ј–Є–Љ–Њ–є.
–Т—А–µ–Љ—П —И–ї–Њ. –Я–∞—А—В–Є—П –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В—М
—Б–≤–Њ—С
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Х—Б–ї–Є –њ–∞—А—В–Є—П –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞, —В–Њ –µ—С –≤–Њ–ї—П –і–ї—П –њ–∞—А—В–Є–є—Ж–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ.
–Я–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї
–љ–∞—И –њ–∞—А—В–Є–µ—Ж –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В. –Я–Њ–≤—Л—Б–Є–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —Б–≤–Њ—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –і–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, —В–Њ –Њ–љ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –≤ –µ–≥–Њ —Б–∞—А–∞–µ, —В–Њ–ґ–µ
–Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –њ–Њ —Й–Є–Ї–Њ–ї–Њ—В–Ї—Г –≤ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–љ—Л–µ –і–Њ–ґ–і–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ:
—Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б 18-–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є—Е
—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ь–Є—А–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ
–Є–Ј
—Б–µ–Љ–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–Њ–≤, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥–∞—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ –Ь–Є—А–∞.
–Я—П—В—М —Н—В–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П
—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є,
–У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є. –С—Л–ї –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј
—Б–µ–Љ–Є
–Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З—С—А—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞–≤—А–µ. –Ш –Њ, —З—Г–і–Њ! –Э–∞—И—С–ї—Б—П
–≤—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —А—Г–±–ї–µ–є
–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≤—Б—П —В–Њ–≥–і–∞—И–љ—П—П –њ—А–µ—Б—Б–∞! –Ш
—Б–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ —Г –љ–∞—Б –≤ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–µ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—И –њ–Њ—Г–Љ–љ–µ–≤—И–Є–є –њ–∞—А—В–Є–µ—Ж –њ–Њ–љ—П–ї –≤—Б—О –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–є
–љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞—О—Й–µ–Љ —Б–∞—А–∞–µ, —В–Њ –Њ–љ —В—Г—В –ґ–µ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г
—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г. –Э–∞—И–ї–Є—Б—М –ї—О–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї—Г –њ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤—Г, –љ–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П
–љ–∞
–µ—С —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Г—О –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ї—Г—А—Б–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є. –Э–∞
–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–∞—В—М —Н—В–Њ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —И–µ–і–µ–≤—А –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г,
-
—Б—В—А–∞–љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –і–µ–љ—М–≥–Є, - –∞ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –њ–∞—А—В–Є–є—Ж—Г –≤—Л–њ–ї–∞—В–Є–ї–Є –њ—А–µ–Љ–Є—О, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ
—Б–Љ–Њ–≥
–Ї—Г–њ–Є—В—М —Б–µ–±–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤—Г—О –Љ–∞—И–Є–љ—Г.
–Т–Њ—В —В–∞–Ї-—В–Њ. –Р –љ–µ –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г—В—М –ї–Є –љ–∞–Љ —Б –Т–∞–Љ–Є –≤ –љ–∞—И–Є —Б–∞—А–∞–Є?
–Ь–Њ–ґ–µ—В
–Є —Г –љ–∞—Б –ї–µ–ґ–∞—В —В–∞–Љ, –≤ —Г–≥–ї—Г, –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л?
–Ю–і–Є–љ –Є–Ј
–Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б–Њ–≤ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З—С—А—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–≤—А—Л.
–Ѓ—А–Ї–∞-–Ъ—Г–≥–Є–љ
–£—З–Є–ї—Б—П —П
–њ–ї–Њ—Е–Њ–≤–∞—В–Њ. –Э–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ. –®–ї—П–ї—Б—П –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–∞–Љ, –і–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є
—В—А–Њ—Д–µ–є–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —А—П–і–Њ–Љ —Б –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–Њ–є –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–∞. –Э–∞ —В–∞–Ї–Њ–є
—Б–≤–∞–ї–Ї–µ –±—Л–ї–∞ –ї—О–±–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞: –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є, –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В—Л, —А–µ–ґ–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л,
–Ј–µ–љ–Є—В–Ї–Є
–Є —В–∞–љ–Ї–Є –≤—Б–µ—Е –Љ–∞—Б—В–µ–є. –С—Л–≤–∞–ї–Њ, –Ј–∞–ї–µ–Ј—Г —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є —П, —И–∞–ї–Њ–њ–∞—П–Љ–Є –≤
–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є
—В–∞–љ–Ї —Г—В—А–Њ–Љ –Є "–≤–Њ—О—О" –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ–і–∞—О—Б—М.
–Ь–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –≤ 1945 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї–∞.
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ –≤—Л–ї–Њ–Љ–∞–ї–Є –Љ—Л –њ–µ—А–µ–і–љ—О—О —Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤—Г—О —Й–µ–ї—М —В–∞–љ–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б
–µ—С
—В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–Љ, –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –µ—С –Ї —Б–µ–±–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А, –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–є —А–∞–Ј–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є
–Њ—В
–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –і–Њ–±–∞–≤–Є–≤ –і–Њ—Б–Ї–Є, –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —В–∞–љ–Ї. –Т–Њ—В –±—Л–ї–Њ
–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ! –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –Љ–Њ–і–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤–Њ –і–≤–Њ—А –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –Є–≥—А–∞—В—М —Б
–љ–Є–Љ–Є
–≤ –≤–Њ–є–љ—Г, —Й—С–ї–Ї–∞—П –Ї—Г—А–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–і—С—В—Б—П –њ–Њ–і –њ—А–Є—Ж–µ–ї. –Ю–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ.
–Ю–і–Є–љ
–Њ–±–Њ–ї—В—Г—Б –≤–Њ—В —В–∞–Ї —Й—С–ї–Ї–∞–ї, —Й—С–ї–Ї–∞–ї, –∞ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞ –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є –і–∞ –Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є! –Ч–∞—А–ґ–∞–≤–µ–ї –≤
–љ–µ–є
–њ–∞—В—А–Њ–љ –Є –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–ї. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ? –£–±–Є–ї –љ–∞–њ–Њ–≤–∞–ї! –¶–µ–ї–Є—В—М—Б—П
—Г–Љ–µ–ї–Є
–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В: –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –≤—Б—С —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –•–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –њ–∞—А–љ–Є—И–Ї—Г
–≤—Б–µ–є —Г–ї–Є—Ж–µ–є.
–Э–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г—А–Њ–Ї —Г—Б–≤–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–њ—А–Њ–Ї. –Ѓ—А–∞ –¶–∞—А—С–≤, —Г
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ
–±—Л–ї–∞ –Ї–ї–Є—З–Ї–∞ –Ъ—Г–≥–Є–љ, –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–ї–Њ—Е–Њ –≤—Л–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –±—Г–Ї–≤—Г "—А", –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б—В–∞–ї
–±–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є–Љ —А—Г–ґ—М–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г —Б–µ–±—П –≤ —Б–∞—А–∞–µ. –Ґ—Г—В –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В –Ї –љ–µ–Љ—Г –µ–≥–Њ
–і—А—Г–ґ–Њ–Ї, -
—В–Є—Е–Є–є —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї. –Р –Ъ—Г–≥–Є–љ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В:
- –•–Њ—З–µ—И—М,
–Ј–∞—Б—В—А–µ–ї—О?
–Ґ–Њ—В –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В, —Н—В–∞–Ї —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О:
- –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ! –І–µ–≥–Њ
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—И—М?
–Ъ—Г–≥–Є–љ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞–µ—В –љ–∞
–Ї—Г—А–Њ–Ї.
–Т—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞–ї –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Р —В—Г—В —А—Г–ґ—М—С –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є, –і–∞ –Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є! –Ф—А–Њ–±—М—О. –Ъ—Г–≥–Є–љ,
–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є "–Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї". –° —А—Г–ґ—М—С–Љ –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П. –Ф–∞–ґ–µ —Б–њ–∞–ї —Б
—А—Г–ґ—М—С–Љ
–≤ —А—Г–Ї–∞—Е. –Ш –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —А—Г–ґ—М—С –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–Њ –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ
–Ґ–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ—Б—В—А–µ–ї—П—В—М –≤–Њ—А–Њ–±—М—С–≤ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–µ, –і–∞ –Њ—В–ї–Њ–ґ–Є–ї
–Њ—В—Б—В—А–µ–ї.
–Т—Л—Б—В—А–µ–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И—С–ї –њ–Њ—З—В–Є –≤ —Г–њ–Њ—А, –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ч–∞—З–µ–Љ –ґ–µ —Ж–µ–ї–Є—В—М—Б—П –Љ–Є–Љ–Њ? –≠—В–Њ –љ–µ
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ. –Ф—А—Г–ґ–Ї—Г –Ъ—Г–≥–Є–љ —А–∞–Ј–љ—С—Б –≤—Б–µ –Ј—Г–±—Л —Б–њ—А–∞–≤–∞. –Ч–∞—И–Є—В—М –≥—Г–±—Л –≤—А–∞—З–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–ї–Њ—Е–Њ–≤–∞—В–Њ. –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї —Б—В–∞–ї –µ—Й—С —В–Є—И–µ,
—А–Њ—В
—Б–Ї—А–Є–≤–Є–ї—Б—П. –Ю–љ —Б—В–∞–ї —Г—А–Њ–і–Њ–Љ, –љ–Њ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–є –Ї –і—А—Г–≥—Г –љ–µ –Є–Љ–µ–ї, - –Њ–љ –ґ–µ –≤–µ–і—М –љ–µ
–љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ.
–Ѓ—А–Ї–∞-–Ъ—Г–≥–Є–љ –ґ–Є–ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Ґ–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ
–љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–∞—А–∞–Ї–∞. –Ь—Л —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П, —В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ
—Г—Б–µ–ї–Є—Б—М –Љ—Л —Б –Ѓ—А–Ї–Њ–є –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї, —Б–≤–µ—Б–Є–≤ –љ–Њ–≥–Є –≤–љ–Є–Ј. –Ѓ—А–Ї–∞ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М
–љ–µ–њ–Њ—Б–µ–і–ї–Є–≤. –Ю–љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥. –ѓ —Б–Є–ґ—Г, –±–Њ–ї—В–∞—О —Б
–љ–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –∞ –Њ–љ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї—А—Г—В–Є—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ –Є –±–Њ–ї—В–∞–µ—В –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є. –С–Њ–ї—В–∞–µ—В –Њ–љ
–љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, –±–Њ–ї—В–∞–µ—В, –Є —Б–Љ–Њ—В—А—О —П: –Ѓ—А–Ї–Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —А—П–і–Њ–Љ –љ–µ—В. –У–і–µ –Ѓ—А–Ї–∞? –Ъ—Г–і–∞ –Њ–љ
–і–µ–ї—Б—П?
- –Ѓ—А–Ї–∞, —В—Л –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–ї? - –Ї—А–Є—З—Г
—П.
- –Ф–∞ —В—Г—В —П, —В—Г—В. - –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –Љ–љ–µ –Ъ—Г–≥–Є–љ
–Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Б–љ–Є–Ј—Г.
–Т—Б—С —П—Б–љ–Њ. –Ф–Њ–±–Њ–ї—В–∞–ї—Б—П! –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –≤–љ–Є–Ј—Г –Њ–≥–Њ—А–Њ–і —Б
–Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є.
–Ч–µ–Љ–ї—П —А—Л—Е–ї–∞—П - –Њ–љ–∞ —Б–Љ—П–≥—З–Є–ї–∞ –њ–∞–і–µ–љ–Є–µ, –∞ —В–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ –љ–Њ–≥ –Љ–Њ–≥ –±—Л –±—Л—В—М
–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ.
- –†–∞–Ј —Г–ґ —П –≤–љ–Є–Ј—Г, - –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В –Ъ—Г–≥–Є–љ, -
–і–∞–≤–∞–є –њ–Њ–є–і—С–Љ –≤ —П–Љ—Г.
–†—П–і–Њ–Љ —Б –і–Њ–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П —П–Љ–∞, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–∞—П
–≤–Њ–і–Њ–є, - —Н–і–∞–Ї –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ї —Г—Б–Є–і–Є—И—М –і–Њ–Љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —П–Љ–µ
–≤–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є –ї—П–≥—Г—И–Ї–Є –Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Є? –Ь—Л –±–µ–ґ–∞–ї–Є –≤ —П–Љ—Г, –њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є–≤ —Б —Б–Њ–±–Њ–є
–њ–Њ
—Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–Њ–є —В—А—С—Е–ї–Є—В—А–Њ–≤–Њ–є –±–∞–љ–Ї–µ. –Э–∞–ї–Њ–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї–±–∞–љ–Ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ
–љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ—Л –±–µ–ґ–∞–ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–є –Є –ї—О–±–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М
–Є–Љ–Є.
–У–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є
—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л: –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є. –°–∞–Љ—Л–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–µ, –≤ –≤–Є–і–µ
—А–∞–Ј–і—Г–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ—Г–Ј—Л—А—П, –Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —Е–≤–Њ—Б—В. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї—А—Г–њ–љ–µ–µ, –Є–Љ–µ–ї–Є —Б–Ј–∞–і–Є
–ї–∞–њ–Ї–Є. –≠—В–Є –ї–∞–њ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П; —Г –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є—Б—М,
–∞ —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –ї–∞–њ–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Г –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –ї—П–≥—Г—И–µ–Ї. –Р —Б–∞–Љ—Л–µ
–Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Є–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї–Є —Г–ґ–µ –Є –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–µ –ї–∞–њ–Ї–Є: –µ—Й—С –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є –Њ–љ–Є
—Б—В–∞–љ—Г—В
–≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ–Є –ї—П–≥—Г—И–Ї–∞–Љ–Є.
–У–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–є –±–∞–љ–Ї–µ –Є –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М
–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –і–∞–≤—П—Б—М –Њ—В —В–µ—Б–љ–Њ—В—Л. –Ю–љ–Є –ґ–∞–і–љ–Њ –≥–ї–Њ—В–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є
—А—В–∞–Љ–Є
–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–і—Л—Е–∞–ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–љ—М –Њ—В –љ–Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–є. –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ
–ї—О–±–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Н—В–Є–Љ —З—Г–і–Њ–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Љ—Л –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Ь—Л —Н—В–∞–Ї–Њ–Љ—Г
—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О
—Б–Њ–±—Л—В–Є–є —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є —В—Г—В –ґ–µ –±–µ–ґ–∞–ї–Є –Ј–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
—В–Њ–ґ–µ
—Б–Ї–Њ—А–Њ –њ–Њ–і—Л—Е–∞–ї–Є –Њ—В –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞.
–Р —З—В–Њ —В—Г—В —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ? –Т–µ–і—М –Љ—Л –Є—Е –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є. –Р
–∞–Ї–≤–∞—А–Є—Г–Љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ—А–µ—Б—Б–Њ—А–Њ–≤ —Г –љ–∞—Б –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ю—В—З–µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –ґ–Є—В—М,
–њ–Њ–љ—П—В—М –Љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –ї—Г—З—И–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Ј–∞–≤–µ—Б—В–Є –∞–Ї–≤–∞—А–Є—Г–Љ–љ—Л—Е —А—Л–±–Њ–Ї,
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Г—Е–Њ–і, –∞ —Г—Б–Є–і—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —Г –љ–∞—Б —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ъ—А–∞—Б–Є–љ
 –•–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б
–Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—Л–Љ. –Ь—Л —Б –љ–Є–Љ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–Њ –і—А—Г–ґ–Є–ї–Є. –Ю–љ –±—Л–ї
–Њ—В–ї–Є—З–љ–Є–Ї –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ, –∞ —П –µ–ї–µ —В—П–љ—Г–ї –ї—П–Љ–Ї—Г. –Ю–љ –±—Л–ї —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —Г—Б–Є–і—З–Є–≤—Л–є, –∞ —П
–±—Л–ї
–љ–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б–µ–і–ї–Є–≤. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ –Є —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ, –∞ —П
–љ–µ—А–≤–љ—Л–Љ,
–Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –Є –≤—Б–њ—Л–ї—М—З–Є–≤—Л–Љ. –Ю–љ —З—Г—В—М —З—В–Њ - –Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–Ї–Њ–≤ —Ж–≤–µ—В, –∞ –Љ–љ–µ
—В–Њ–≥–і–∞
—Е–Њ—В—М –Ї–Њ–ї –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —В–µ—И–Є, —П –Є –љ–µ –Љ–Њ—А–≥–љ—Г. –Ю–љ –±—Л–ї —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –∞ —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Б—С
–і–µ–ї–∞–ї –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞–ї –Є –±—Л–ї —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј
—Б–∞–Љ—Л—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤.
–•–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б
–Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—Л–Љ. –Ь—Л —Б –љ–Є–Љ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–Њ –і—А—Г–ґ–Є–ї–Є. –Ю–љ –±—Л–ї
–Њ—В–ї–Є—З–љ–Є–Ї –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ, –∞ —П –µ–ї–µ —В—П–љ—Г–ї –ї—П–Љ–Ї—Г. –Ю–љ –±—Л–ї —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —Г—Б–Є–і—З–Є–≤—Л–є, –∞ —П
–±—Л–ї
–љ–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б–µ–і–ї–Є–≤. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ –Є —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ, –∞ —П
–љ–µ—А–≤–љ—Л–Љ,
–Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –Є –≤—Б–њ—Л–ї—М—З–Є–≤—Л–Љ. –Ю–љ —З—Г—В—М —З—В–Њ - –Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–Ї–Њ–≤ —Ж–≤–µ—В, –∞ –Љ–љ–µ
—В–Њ–≥–і–∞
—Е–Њ—В—М –Ї–Њ–ї –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —В–µ—И–Є, —П –Є –љ–µ –Љ–Њ—А–≥–љ—Г. –Ю–љ –±—Л–ї —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –∞ —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Б—С
–і–µ–ї–∞–ї –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞–ї –Є –±—Л–ї —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј
—Б–∞–Љ—Л—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤.
–Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ъ—А–∞—Б–Є–љ.
–Я–Њ–і –Њ–Ї–љ–Њ–Љ —Г –Т–Њ–ї–Њ–і–Є –±—Л–ї —А–∞–Ј–±–Є—В —Б–∞–і-–Њ–≥–Њ—А–Њ–і, –≥–і–µ —Б–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–≤–Њ—Й–Є, –љ–Њ –Є —Ж–≤–µ—В—Л. –Т—Б—П –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М—П —Н—В–Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Њ–±—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞, –њ–Њ—А–Њ–є, —Б
—Г—В—А–∞ –Є –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞. –†–Њ—Б–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–і—Г-–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–µ –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–∞, —Б–≤—С–Ї–ї–∞, –Њ–≥—Г—А—Ж—Л,
–њ–Њ–Љ–Є–і–Њ—А—Л
–Є, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥, - –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ь–Њ—А–Ї–Њ–≤—М —Г –љ–Є—Е —А–Њ—Б–ї–∞
–Њ—З–µ–љ—М
—Б–ї–∞–і–Ї–∞—П –Є –≤–Ї—Г—Б–љ–∞—П. –°–Њ—А—В –±—Л–ї –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞—А–Њ—В–µ–ї—М. –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П —Б–≤–µ—А—Е—Г, –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤—М
–±—Л–ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —В–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Є —Б–љ–Є–Ј—Г, –љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є.
–•—А–∞–љ–Є–ї–Є –Њ–љ–Є –≤—Б—О –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—О –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ, –±–ї–∞–≥–Њ, —З—В–Њ –ґ–Є–ї–Є –љ–∞
–њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е —Н—В–∞–ґ–µ–є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –і–µ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –љ–µ
–ї–µ–љ–Є–≤—Л–Љ–Є, –Ї–Њ–њ–∞–ї–Є —Б–µ–±–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±. –Ц–Є—В–µ–ї–Є –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е —Н—В–∞–ґ–µ–є —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ
–Є–Љ–µ–ї–Є
–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–Є–ґ–љ–Є–Љ —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ. –Ю—З–µ–љ—М –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –Є —Г–і–Њ–±–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–Є–Љ–µ—В—М
–њ–Њ–≥—А–µ–±. –Я–Њ–≥—А–µ–± –Њ—Б–µ–љ—М—О –љ–∞–±–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є —В–∞–Љ –≤—Б—П—З–Є–љ–Њ–є, –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ
–ґ–Є–ї–Є
–і–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–∞—П, –љ–µ –≥–Њ–ї–Њ–і–∞—П. –Ы–µ—В–Њ–Љ –Љ–µ–љ—П –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і—П —Г–≥–Њ—Й–∞–ї –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Ї–Њ–є
–њ—А—П–Љ–Њ —Б –≥—А—П–і–Ї–Є, –Ј–∞ —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А—Г–≥–∞–ї. –Ч–Є–Љ–Њ–є –Т–Њ–ї–Њ–і—П
–њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї
–Љ–µ–љ—П –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±, - —В–∞–Љ –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Ї–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–љ–љ–Њ–є –њ–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–і–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ
—Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М. –Я–Њ–≥—А–µ–± –Є–Љ–µ–ї –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є—О –≤ –≤–Є–і–µ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞,
–≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Б—Г—Е–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ
—Е—А–∞–љ–Є—В—М –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л.
–Ц–∞–ї—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ —Б —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ
–і–µ—В—Б—В–≤–∞
–±—Л–ї–Є –±–Њ–ї—М–љ—Л –љ–Њ–≥–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ —Б–≥–Є–±–∞—П –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ
—Н—В–Њ
–±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –±–µ–≥–Њ–Љ. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–µ –і–≤–Є–≥–∞–ї
—Б–≤–Њ–Є
–±–Њ–ї—М–љ—Л–µ –љ–Њ–≥–Є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—П —Б–µ–±–µ —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ —Б–≥–Є–±–∞–ї –≤ –ї–Њ–Ї—В—П—Е, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Є—Е
–Ј–∞–і–Є—А–∞—П, –Є —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Є–Љ–Є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –љ–Њ–≥–∞–Љ.
–°–Њ
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Н—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–µ—И–љ—Л–Љ –Є –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–ї–Є –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П
–±–Њ–ї–µ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ "–Ъ–Њ–Ј–ї–∞" –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Є –љ–µ –Ј–љ–∞—О.
- –°–Љ–Њ—В—А–Є, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Ј–ї–Њ–њ—Л—Е–∞—В–µ–ї–Є, –µ–≥–Њ
—Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Є, - –Ъ–Њ–Ј—С–ї –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–ї–µ—В —Б–Њ—А–љ—П–Ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ
—Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Ї–Њ–є. –Ш –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, - –≤–µ–і—М –≤—Б–µ –Ї–Њ–Ј–ї—Л –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±—П—В
–Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Ї—Г.
–Я–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Т–Њ–ї–Њ–і—П –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є—П
–≤
–љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л—Е –Є–≥—А–∞—Е.
–С—Л–≤–∞–ї–Њ, –Є–і—Г —П –≤–µ—Б–љ–Њ–є –Љ–Є–Љ–Њ
–≤–Њ–ї–Њ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–Є–Ї–∞, –≥–і–µ –Њ–љ –Ї–Њ–≤—Л—А—П–µ—В—Б—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –∞
–Т–Њ–ї–Њ–і—П
–Љ–µ–љ—П —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В:
- –°–ї–∞–≤–Є–Ї, —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ—Б—Г! –Ґ—Л
–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—И—М—Б—П?
- –Ф–∞ –љ–µ—В, –µ—Й—С —Г—Б–њ–µ—О. - –Њ—В–≤–µ—З–∞—О —П
–±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ.
–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Њ–љ –Љ–µ–љ—П –≤–љ–Њ–≤—М
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В:
- –Э–∞—З–∞–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Ї —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ?
–ѓ –Њ–њ—П—В—М –≥–Њ–≤–Њ—А—О:
- –Я–Њ–Ї–∞ –љ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г. –Р —В—Л?
- –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –≤—Б–µ –±–Є–ї–µ—В—Л "–њ—А–Њ—И—С–ї". -
–Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –Њ–љ.
–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—М–Ї—Г —П –Њ–њ—П—В—М –Љ–Є–Љ–Њ –љ–µ–≥–Њ
–њ—А–Њ—Е–Њ–ґ—Г:
- –Т–Њ–ї–Њ–і—П, –Ї–∞–Ї —В—Л —В–∞–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—И—М—Б—П –Ї
—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ? –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј "–њ—А–Њ—И—С–ї" –±–Є–ї–µ—В—Л?
- –Ґ—Л —З—В–Њ? –ѓ —Г–ґ–µ —З–µ—В–≤—С—А—В—Л–є —А–∞–Ј –Є—Е
–њ—А–Њ—И—В—Г–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї. –Р —В—Л –Ї–∞–Ї?
- –Ф–∞ —П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Б–Њ–±–Є—А–∞—О—Б—М.
–Х—Й—С —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—М–Ї—Г —П –Њ–њ—П—В—М –µ–≥–Њ
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О:
- –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј
"–њ—А–Њ—И—С–ї—Б—П"?
- –Ъ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞—Е–Њ–і—Г –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї, - –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї
–Њ–љ, - –∞ —В—Л?
- –ѓ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ
–љ–∞—З–∞–ї.
- –Ъ–Њ–і–∞ –ґ–µ —В—Л —Г—Б–њ–µ–µ—И—М, –≤–µ–і—М —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л
—З–µ—А–µ–Ј
–і–≤–∞ –і–љ—П?
- –Х—Й—С —Г—Б–њ–µ—О, - –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї
—П.
–Я–Њ—Б–ї–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ—Б—П.
- –Э—Г, –Ї–∞–Ї? - —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О —П –µ–≥–Њ?
- –Т—Б–µ –њ—П—В—С—А–Ї–Є, –∞ —Г
—В–µ–±—П?
- –Т—Б–µ —В—А–Њ–є–Ї–Є –Є –Њ–і–љ–∞ –њ–µ—А–µ—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞
–Њ—Б–µ–љ—М, - –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї —П.
- –Ґ–∞–Ї —П –ґ–µ —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: –њ–Њ–і–љ–∞–ґ–Љ–Є! - –∞
—В—Л
–≤—Б—С —Г—Б–њ–µ—О, –і–∞ —Г—Б–њ–µ—О. - –Т–Њ—В –Є "—Г—Б–њ–µ–ї". –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ –Є–≥—А–∞—В—М –≤
–≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї
–і–∞ —Д—Г—В–±–Њ–ї, –і–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—Л —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤ –Є –љ–∞–Є–≥—А–∞–ї—Б—П –±—Л
–≤–≤–Њ–ї—О.
–Ч–∞ –Ї—А–∞–є–љ–Є–Љ –љ–∞—И–Є–Љ –±–∞—А–∞–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ
–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ,
–≥–і–µ –Љ—Л –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї—М–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г. –Э–∞ –љ–µ–є –Є –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ —Н—В–Њ—В
—Б–љ–Є–Љ–Њ–Ї:
–Э–∞
—Б–љ–Є–Љ–Ї–µ —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –Т–∞–ї—П –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –Т–Њ–ї–Њ–і—П –Ъ—А–∞—Б–Є–љ, —З–µ—В–≤—С—А—В—Л–є —Б–ї–µ–≤–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і—П
–Ч–µ–Ј–µ–ї—С–≤, –і–∞–ї–µ–µ –Ь–∞–є—П –Є –њ—А–∞–≤–µ–µ –°–ї–∞–≤–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ—З–µ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—П –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤.
–Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е
–љ–µ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О.
–°–∞–Љ –Т–Њ–ї–Њ–і—П —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Њ—З—М –±—Л–ї –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Є–≥—А–∞—В—М –Є –≤ —В–Њ –Є –≤
—Н—В–Њ,
–љ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ј–љ–∞–ї –Љ–µ—А—Г. –Р —Г—З—С–±–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –Є –±—Л–ї
–Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ "–њ—П—В—С—А–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ". –Р –Љ–љ–µ –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї–∞ –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ–≤–∞—В–Њ.
–Ь–Њ–Є–Љ
–∞–Љ–њ–ї—Г–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ. –° –Љ–Њ–Є–Љ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ —Н—В–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ—Е. –Р –Є–≥—А–∞—В—М
–≤
–Ј–∞—Й–Є—В–µ –Є –≤ —А–∞—Б–њ–∞—Б–Њ–≤–Ї–µ —П –љ–µ —Г–Љ–µ–ї. –Ь–љ–µ —З–∞—Б—В–Њ –≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –њ–Њ
–Є–≥—А–µ:
- –Т–µ–ї–Є–Ї–∞ —Д–Є–≥—Г—А–∞, –і–∞ –і—Г—А–∞.
–°–Њ –Љ–љ–Њ–є —А—П–і–Њ–Љ —З–∞—Й–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л–≤–∞–ї–Є, —З–µ–Љ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–ї–Є. –Ы—О–±–Њ–≤—М –Ї
–≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї—Г –њ—А–Њ—И–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б—О –Љ–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –≥–Њ–і–∞–Љ —П –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П
–Є–≥—А–∞—В—М –≤
–Ј–∞—Й–Є—В–µ. –Ь–µ–љ—П —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤ —Б–±–Њ—А–љ—Г—О, –≥–і–µ —П –±—Л–ї –љ–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ.
–Ю–і–љ–Њ
–≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л.
–Р —В–Њ–≥–і–∞, –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, —П –Љ–Њ–≥ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–њ—А—Л–≥–љ—Г—В—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і
—Б–µ—В–Ї–Њ–є, –і–∞ –Є –і–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –і–Њ –Љ—П—З–∞ —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ–љ —В—А–µ—Й–∞–ї –њ–Њ —И–≤–∞–Љ, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П –њ—Л–ї—М —Б
–њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—П—В—М —А–∞–Ј —В–µ—А—П–ї –Љ—П—З –њ—А–Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Є —А–∞—Б–њ–∞—Б–Њ–≤–Ї–µ. –Э–Њ –Љ–µ–љ—П —Н—В–Њ
–Љ–∞–ї–Њ
–Њ–≥–Њ—А—З–∞–ї–Њ: –Ј–∞—В–Њ –≤ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є —П –±—Л–ї –∞—Б, —З—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –Љ–љ–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ
—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ.
–С—Л–≤–∞–ї–Њ, –љ–∞–Є–≥—А–∞—О—Б—М –≤ –≤–Њ–ї–µ–є–±–Њ–ї, –≤—Б–µ —А–∞–Ј–Њ–є–і—Г—В—Б—П –њ–Њ –і–Њ–Љ–∞–Љ
–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ, –∞ —П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О –Є–≥—А–∞—В—М —Б–∞–Љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є, –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –Љ—П—З
–љ–∞–і
—Б–µ—В–Ї–Њ–є –Є –≤–≥–Њ–љ—П—П –µ–≥–Њ –≤ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞.
–Я—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –Т–Њ–ї–Њ–і—П —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М
–њ—М–µ–Ј–Њ-–љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–Є. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –≤ –Њ–і–Є–љ –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М,
—В–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–µ –≤—Б—С —Б–ї—Л—И–љ–Њ. –Ґ—Г—В –ґ–µ —П –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї —Н—В—Г –Є–і–µ—О –Є –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї
–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б –Ґ–Њ–ї–µ–є –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є–Ј –±–∞—А–∞–Ї–∞ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Є —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є
–Ъ—А–∞—Б–Є–љ—Л–Љ.
–Я—Л—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є "–ї–Є–љ–Є—О" —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –±–∞—А–∞–Ї–∞ –Ї –Т–Њ–ї–Њ–і–µ –®–∞–њ–Њ–≤–∞–ї—Г, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ
–±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ "–®–њ—А–Њ—В", –љ–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, - —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ.
–Т–Њ–ї–Њ–і—П –®–∞–њ–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ—С –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О, –љ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ —Е—Г–і—Г—О
—Д–Є–≥—Г—А—Г.
–Т–Њ–ї–Њ–і—П –®–∞–њ–Њ–≤–∞–ї (—Б–ї–µ–≤–∞)
–Є –Т–Њ–ї–Њ–і—П
–Ъ—А–∞—Б–Є–љ.
"–Ґ–µ–ї–µ—Д–Њ–љ" –Ї –Т–Њ–ї–Њ–і–µ –Ъ—А–∞—Б–Є–љ—Г –Є –Ґ–Њ–ї–µ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Г —А–∞–±–Њ—В–∞–ї
–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ. –Т—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ, - –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–њ–Њ—Б—В—Г—З–∞—В—М –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥ –Њ–± –і—А—Г–ґ–Ї—Г. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є
—Б—В—Г–Ї
–Њ—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ. –Т –Њ–і–Є–љ –љ–∞—Г—И–љ–Є–Ї –Љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤—Б—С –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ
—Б–ї—Л—И–∞–ї–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є "—В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ" –љ–∞ –≤—Б–µ –љ–∞—И–Є –±–∞—А–∞–Ї–Є. –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е
–њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ–є.
–Т –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–љ–Њ–Љ —Б–∞—А–∞–є—З–Є–Ї–µ —Г–Ј–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ
—Б–њ—А–∞–≤–∞
–±—Л–ї —В–Њ–њ—З–∞–љ, –≥–і–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–ї–µ—З—М –Є –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М. –Т –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–∞—А–∞—П –±—Л–ї–Њ
–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Ї—Г—А. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Б –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є —П –љ–∞ —В–Њ–Љ —В–Њ–њ—З–∞–љ–µ –љ–Њ—З–µ–≤–∞–ї, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М
–і–ї—П
–Љ–µ–љ—П —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–Њ–є. –Ґ–Њ–њ—З–∞–љ –±—Л–ї –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ–≤–∞—В –Є —Г–Ј–Њ–Ї, –љ–Њ –Њ–љ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–љ–µ
–њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є
–Љ–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є –≤ –±–∞—А–∞–Ї–µ. –†—П–і–Њ–Љ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–∞ —В–Њ–њ—З–∞–љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–µ–µ –Є
—Г–і–Њ–±–љ–µ–µ.
–°–њ–Є—И—М, –њ–Њ—Б–ї–µ
–Ј–∞–і—Г—И–µ–≤–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є –љ–∞ —В–Њ–њ—З–∞–љ–µ –і–Њ –Ј–≤—С–Ј–і, –∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б —В–Њ–±–Њ–є —З—Г—В–Ї–Є–Љ
—Б–љ–Њ–Љ —Б–њ—П—В –Ї—Г—А—Л. –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї—Г—А—Л –≤–Њ —Б–љ–µ –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –Ї–≤–Њ—Е—З—Г—В,
–њ–µ—А–µ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Б
–љ–Њ–≥–Є –љ–∞ –љ–Њ–≥—Г –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —И–µ—Б—В–Ї–∞—Е, - –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ –і—Г—И–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ —В–µ–њ–ї–Њ –Є
–њ—А–Є—П—В–љ–Њ. –Р —Б –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞, –Є–Ј –Ї—Г—А–Є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ —Б–∞—А–∞—П
—А–∞–Ј–і–∞—С—В—Б—П
–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–µ –њ–µ—В—Г—И–Є–љ–Њ–µ –Ї—Г–Ї–∞—А–µ–Ї–Є–≤–∞–љ–Є–µ. –Ґ—Г—В —Г–ґ–µ –љ–µ –і–Њ —Б–љ–∞. –Ь—Л —Б –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є
–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Б—П,
—Б–ї–∞–і–Ї–Њ –њ–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞—П—Б—М, –Є –≤—Л–±–Є—А–∞–µ–Љ—Б—П –Є–Ј —Б–∞—А–∞—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г.
–Т–Њ–ї–Њ–і—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Ї—Г—А –Є–Ј —Б–∞—А–∞—П. –Ъ—Г—А—Л —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞—О—В—Б—П –њ–Њ
–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤—Г –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–∞—А–∞–µ–Љ –Є –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–љ—Л–Љ —Б–∞–і–Є–Ї–Њ–Љ. –Ь–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –≥–Њ—А–і–Њ
—А–∞—Б—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В –њ–µ—В—Г—Е. –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ –≥–Њ–љ—П–µ—В—Б—П —В–Њ –Ј–∞ –Њ–і–љ–Њ–є, —В–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –Є–Ј
—Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т—Л–±—А–∞–љ–љ–∞—П
–Ї—Г—А–Є—Ж–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–є —И—Г–Љ, –Ї—Г–і–∞—Е—З–∞ —В–∞–Ї, –±—Г–і—В–Њ —Н—В–Њ
–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є
–Љ–Є–≥ –µ—С –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Њ–љ–∞, –Њ—В—А—П—Е–Є–≤–∞—П—Б—М –Њ—В –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є –∞–Ї—Ж–Є–Є,
–Ї–∞–Ї
–љ–Є –≤ —З—С–Љ –љ–Є –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —А–∞–Ј–≥—А–µ–±–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –ї–∞–њ–Ї–∞–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї—О,
–њ–Њ–Ї–ї—С–≤—Л–≤–∞—П –Є–Ј –љ–µ—С –≤—Б—С —В–Њ, —З—В–Њ –±–Њ–≥ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї.
–Т—В–Њ—А–∞—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–ї–Њ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—В—Г—Е–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ,
—З—В–Њ–±—Л
–Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –Ї—Г—А–Є–љ—Г—О —Б–µ–Љ—М—О –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Є—Е –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Г–≥—А–Њ–Ј, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М: —Б–Њ–±–∞–Ї–Є,
–Ї–Њ—И–Ї–Є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ. –Я–µ—В—Г—Е –≤–Є—Е—А–µ–Љ –љ–∞–ї–µ—В–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞–≤—И–Є—Е —Б–Њ–±–∞–Ї –Є
–Ї–Њ—И–µ–Ї, —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –Є–Љ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ—Г –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Е–ї–µ—Б—В–∞—В—М –Є—Е –Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є –њ–Њ –Љ–Њ—А–і–µ –Є –Ї–ї–µ–≤–∞—В—М
–њ–Њ
–≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –Є–Ј–і–∞–≤–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ—А—В–∞–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–Є –њ–µ—В—Г—И–Є–љ—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А–Є–Ї–Є. –Ф–µ–ї–∞–ї
–Њ–љ
—Н—В–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Є–Ј –Ј–∞—Б–∞–і—Л. –Я–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Є –Ї–Њ—И–Ї–Є, –Є—Б–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–µ —В–∞–Ї–Є–Љ
–љ–∞–њ–Њ—А–Њ–Љ, —В—Г—В –ґ–µ —Б –њ–Њ–Ј–Њ—А–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –њ–µ—В—Г—Е –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –≥–Њ—А–і–Њ
–Ї—А—Г—В–Є—В—М—Б—П
–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –Є–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П. –Ъ—Г—А—Л, –љ–∞
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Њ—В–≤–ї–µ—З—С–љ–љ—Л–µ –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –Ј–∞—В–µ–Љ
–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є
–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, –≤–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї—Г—А–Є–љ—Л—Е
—Б–µ—А–і—Ж–∞—Е
–і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ –Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї—Г –Є –Њ–±–Њ–ґ–∞—В–µ–ї—О. –≠—В–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Є–і–Є–ї–ї–Є—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М
–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М.
–Т—Б—С –±—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –љ–Њ –њ–µ—В—Г—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –љ–∞–њ–∞–і–∞–ї –Є –љ–∞
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е. –Ю–љ –љ–∞–ї–µ—В–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–∞—А–∞—П, –≥–і–µ –±—Л–ї
–љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–µ–љ, —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –±–µ–і–Њ–ї–∞–≥–µ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Б —И—Г–Љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О
–Њ–±—Л—З–љ—Г—О –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Г, –Ї–∞–Ї —Б —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ–Є –Є –Ї–Њ—И–Ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ —Г–ї–µ–њ—С—В—Л–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї
–Љ–Њ–≥–ї–Є,
–љ–Њ —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –і–ї—П –љ–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є: –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –Љ–Є–Љ–Њ –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞—А–∞—П –Є –љ–µ
–±—Л—В—М
–Њ–±–Ї–ї—С–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Є –Є–Ј–±–Є—В—Л–Љ –њ–µ—В—Г—Е–Њ–Љ? –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М
–Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ
–њ–µ—В—Г—Е–∞, - –Ї—А–∞—Б—Г –Є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, - –њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ–Њ–і –љ–Њ–ґ –Є —Б–≤–∞—А–Є—В—М –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ
—Б—Г–њ. –Ь–Њ—А–∞–ї—М —В—Г—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞:
–С—Г–і—М –∞—В–ї–µ—В–Њ–Љ —В—Л –њ–ї–µ—З–Є—Б—В—Л–Љ,
–Я–µ—В—Г—Е–Њ–Љ –±—Г–і—М –≥–Њ–ї–Њ—Б–Є—Б—В—Л–Љ.
–Ъ–∞–Ї —И–∞–Љ–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ –њ–µ–љ—М—Б—П,
–С—Г–і—М —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–µ–є, –љ–µ –µ—А–µ–њ–µ–љ—М—Б—П.
–Ф—О–ї—П –Є –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—П
–Т —Б–∞–Љ—Л–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М
—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і. –Ф–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ—П—В–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–µ,
—А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —А—П–і–Њ–Љ —Б —Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ —В–Њ
–≤—А–µ–Љ—П
–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ —В—А—С—Е—А–∞–Ј–Њ–≤–Њ–µ
–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –Ї—А–Њ–Љ–µ
–Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л. –Ь–∞–Љ–∞ –Љ–Њ—П –±—Л–ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л–Љ, –Є –µ–є —А–∞–±–Њ—В–∞ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є
–њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є –љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ —Г–Љ–µ–ї–∞ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М
–≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—С –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–≤–Ј–Њ–є—В–Є –њ–Њ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є.
–Я–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —П –±—Л–ї
"—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ".
–Ч—А–Є—В–µ–ї–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–µ—В–Є –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ, —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –Ј–∞–ї–µ, –≥–і–µ
–Љ–Њ—П
–Љ–∞–Љ–∞ –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є–ї–∞ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —С–ї–Ї—Г –Є–Ј —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–≥—А—Г—И–µ–Ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є
–љ–µ
–±—Л–ї–Њ, –Є –Љ–∞–Љ–∞ –≤—Б—С –і–µ–ї–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Є–Ј –±—Г–Љ–∞–≥–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –≥–Є—А–ї—П–љ–і—Л, —А–∞–Ј—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ
–Ј–≤–µ—А—О—И–Ї–Є, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—Г—А—Г, –і–µ–і –Ь–Њ—А–Њ–Ј, –°–љ–µ–≥—Г—А–Њ—З–Ї–∞, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј
–≤–∞—В—Л –Є
–њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–µ –ї–∞–Ї–Њ–Љ. –Т—Б—С —А–∞–Ј–Љ–∞–ї–µ–≤–∞–љ–Њ, –і–∞ —В–∞–Ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –∞—Е–∞–ї–Є –Є
–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞–Љ–Є–љ–Њ–Љ—Г —В–∞–ї–∞–љ—В—Г.
–Т —В–Њ—В –і–µ–љ—М —П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б—В–∞–ї –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ. –Ъ—В–Њ –±—Л –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М,
—З—В–Њ
—П –≤ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Б—В–∞–љ—Г —Б–Њ—З–Є–љ—П—В—М –њ–µ—Б–љ–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Б –љ–Є–Љ–Є –≤
–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ —Г—А–Њ–≤–љ—П
–Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –°–°–°–†, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е?
–Э–Њ, —В–Њ –±—Г–і–µ—В –µ—Й—С –љ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ, –∞ —Б–µ–є—З–∞—Б —П –Ј–∞–ї–µ–Ј–∞—О –њ–Њ–і —Б—В–Њ–ї –љ–∞
—З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ—М–Ї–∞—Е. –Ь–µ–љ—П –љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞—О—В —Б–Ї–∞—В–µ—А—В—М—О, —З—В–Њ–±—Л —Б–Ї—А—Л—В—М –Љ–Њ–Є –љ–Њ–≥–Є, –љ–∞ —Б–Ї–∞—В–µ—А—В—М
—Б—В–∞–≤—П—В –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ—Ж–∞ –Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–Є–µ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є. –Я–Њ–і –Ј–≤—Г–Ї–Є –њ–∞—В–µ—Д–Њ–љ–љ–Њ–є
–њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є —П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О —Б—В–Њ–ї-—Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і –Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤—К–µ–Ј–ґ–∞—О –≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ—О—О –Ј–∞–ї—Г.
–Р–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —П
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї.
–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Љ–∞–Ї–µ—В –Ї—А–µ–Љ–ї—С–≤—Б–Ї–Њ–є
–°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є
–±–∞—И–љ–Є. –Я–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞–Љ–∞ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–∞ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О
–њ–ї–Њ—Й–∞–і—М,
–≤—Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞ —Г–≥–ї—Г –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–∞ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–Є –Є —Б—В–∞–ї–∞ –µ—С –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М. –Ґ—Г—В
–ґ–µ
–Ї –љ–µ–є –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А –Є –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї –µ–є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б—С
—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ
—Б—В—А–∞–љ—Л –≤—Б–µ–≥–Њ –±–Њ—П–ї–Њ—Б—М: –Ї–∞–Ї –±—Л —З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л—И–ї–Њ. –Т–µ–Ј–і–µ –Љ–µ—А–µ—Й–Є–ї–Є—Б—М —И–њ–Є–Њ–љ—Л –Є
–і–Є–≤–µ—А—Б–∞–љ—В—Л. –Т—Б—С –ґ–µ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–∞—П —Б—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М —Б –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–Њ–Љ —Г –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М.
–Ь–∞–Ї–µ—В –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–µ–љ, –Є –Њ–љ –і–Њ–ї–≥–Њ —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї –љ–∞—И –і–µ—В—Б–Ї–Є–є
—Б–∞–і.
–Ь–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –µ—С —Б–Њ—А–≤–∞–љ–µ—Ж –°–ї–∞–≤–Є–Ї
–≥–і–µ-—В–Њ
—В–∞–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –љ–µ—С, –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–µ–љ, - –љ–∞ –Љ–Є–Ј–µ—А–љ—Г—О –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Г –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ-—В–Њ
–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–љ–∞–Ї—Г–њ–Є—И—М –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, –і–∞ –Є –љ–µ –љ–∞–±—М—С—И—М –Є–Љ–Є —Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї, —Е–Њ—В—П —Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –≤ —В–Њ
–≤—А–µ–Љ—П –љ–Є —Г –Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–∞
—Б–≤–Њ–є
–і–µ—В—Б–∞–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–±–µ–і –Љ–љ–µ.
–С—Л–ї —Г –љ–∞—Б –Њ–і–Є–љ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–∞—А–µ–љ—С–Ї: –љ–∞—Е–∞–ї—М–љ—Л–є –Є —И–Ї–Њ–і–ї–Є–≤—Л–є.
–Ч–≤–∞–ї–Є
–µ–≥–Њ –Т–∞–і–Є–Љ, –∞ –њ–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й—Г –Ф—О–ї—П. –£ –Ф—О–ї–Є –±—Л–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П —А–Њ–і–Є–љ–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–ї–∞–Ј
–≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–Њ–є —Б –њ—П—В–∞–Ї, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞—П –≥—Г—Б—В—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є. –Ю–љ –Њ—Б—В—А–Њ, —Б –Њ–Ј–Њ—А—Ж–Њ–є –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї
–Є–Ј
–њ–Њ–і —Б–≤–Њ–µ–є –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ–і–Є–љ–Ї–Є, –Є –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–љ—Л–Љ, –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—А–µ–і–Є
–љ–∞—Б.
–ѓ –ґ–і–∞–ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –њ–Њ–є—В–Є –Ј–∞
–Љ–∞–Љ–Є–љ—Л–Љ
–Њ–±–µ–і–Њ–Љ —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Г—В—А–∞, - –≥–Њ–ї–Њ–і –љ–µ —В—С—В–Ї–∞. –Т–Њ—В –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї —З–∞—Б, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–Є–і—В–Є –Ї –Љ–∞–Љ–µ. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ф—О–ї—П - –Љ–Њ–є –і—А—Г–≥ - –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–љ—С–Љ —Б –Њ–≥–љ—С–Љ –љ–∞–і–Њ
–±—Л–ї–Њ
–Є—Б–Ї–∞—В—М, –≤—Б–µ–≥–і–∞ (—З–Є—Б—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ) –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ
–Њ–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞—П.
–С—Л–ї –Њ–љ –њ–Њ –љ–∞—В—Г—А–µ –Њ—Б—В—А—Л–є, –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л–є, –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –Ј–∞–і–Є—А–Є—Б—В—Л–є,
—Г–≤–∞–ґ–∞—О—Й–Є–є
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–±—П, –љ–Њ –≤ —Н—В—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П. –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ!
–Э–µ
–Є–Љ–µ—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–є, –Њ–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ,
–≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є
–Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤—Л–Љ:
- –Я—А–Є–≤–µ—В,
–°–ї–∞–≤–Є–Ї! –І—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Є –Љ–љ–µ —Н—В–Є –љ–∞—И–Є –і—А—Г–Ј—М—П-–љ–µ–і–Њ—В—С–њ—Л –Є –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–Ї–Є, –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ
—В—Л.
–Ґ—Л —В–∞–Ї–Њ–є —Г–Љ–љ—Л–є, –љ–∞—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–є, —Б–Љ—Л—И–ї—С–љ—Л–є. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є-–Ї–∞ –Љ–љ–µ –µ—Й—С —А–∞–Ј –њ—А–Њ –±–Њ—В–Є–Ї
–Я–µ—В—А–∞
–Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ.
–ѓ –≤—Б—С —Н—В–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –Ј–∞ —З–Є—Б—В—Г—О –Љ–Њ–љ–µ—В—Г –Є
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї:
- –° —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –Т–∞–і–Є–Љ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤, –µ—Б–ї–Є —П
—В–µ–±–µ –Њ
–±–Њ—В–Є–Ї–µ –±—Г–і—Г —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —Е–Њ–і—Г. –Ь–љ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞–є—В–Є –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г.
–Ф–∞–≤–∞–є –њ–Њ–є–і—С–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ.
–Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ф—О–ї–µ –Є –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –Є–±–Њ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ
–±—Г–і–µ—В
–і–∞–ї—М—И–µ.
–Ь—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Я–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Ф—О–ї—П –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–љ—П
—Б–ї—Г—И–∞–ї, –љ–µ –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞—П, –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є
–≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —З–µ–Љ —П –±—Л–ї –≥–Њ—А–і. –Ь—Л –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–∞–і–Є–Ї—Г —Б–Њ
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л
–Ї—Г—Е–љ–Є.
–Я–Њ–і—К–µ–Ј–і
–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–Є–Ї–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї—Г—Е–љ–Є.
–Т—Л—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –і–≤–µ –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—М–Ї–Є, - –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є
–±—Л–ї
–љ–µ–Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤—Л–є —Б—Г–њ–µ—Ж, –∞ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≤—В–Њ—А–Њ–µ —Б –Ї–Њ—В–ї–µ—В–Ї–Њ–є. –Э–∞ —В—А–µ—В—М–µ –±—Л–ї —З–∞–є –Є–ї–Є
–Ї–Њ–Љ–њ–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П —В—Г—В –ґ–µ –≤—Л–њ–Є–≤–∞–ї, –і–µ–ї—П—Б—М —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ.
–Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Љ–∞–Љ—Г –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і–Є–Ї–µ –≤—Б–µ –Њ—З–µ–љ—М
–ї—О–±–Є–ї–Є, —Г–≤–∞–ґ–∞–ї–Є, –Є–±–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О
—А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–є —Б–µ—А–і–Њ–±–Њ–ї—М–љ–∞—П
–Ї—Г—Е–∞—А–Ї–∞
–≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–±–µ–і –і–∞–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї—Г, –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ
—Г
–љ–µ—С –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Љ–∞–ї–µ—Ж, –Є –Њ–љ–∞ —Н—В–Њ—В –Њ–±–µ–і –Њ—В–і–∞—С—В –µ–Љ—Г. –Х–і—Л –≤ –Љ–Њ–Є—Е –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—М–Ї–∞—Е
–≤—Б–µ–≥–і–∞
–±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –њ–Њ—А—Ж–Є—О. –°—Г–њ–µ—Ж –њ–Њ–≥—Г—Й–µ, –Ї–∞—А—В–Њ—И–µ—З–Ї–Є –Є–ї–Є
–Ї–∞—И–Ї–Є
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Є –ї–Є—И–љ—П—П –Ї–Њ—В–ї–µ—В–Ї–∞. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –µ–є —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О
—Б–µ–є—З–∞—Б, —Е–Њ—В—П —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П.
–ѓ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –Ф—О–ї–µ, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –≤ –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—М–Ї–∞—Е, –Є
–Љ—Л
–Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Э–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Ф—О–ї—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –і–Њ–±—А–µ–є—И–Є–Љ
–Є
–Љ–Є–ї–µ–є—И–Є–Љ –Ї–Њ –Љ–љ–µ. –Ю–љ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –≤ –Љ–Њ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞, –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї –Њ
–њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–µ–є—Б—П
–≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Љ–∞—И–Є–љ–µ, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г —З–µ—А–µ–Ј –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –Ї–ї—П–ї—Б—П –≤ –≤–µ—З–љ–Њ–є –Є
–њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–±–µ. –ѓ –±—Л–ї –љ–∞–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—Д–Є–ї–µ–є, –Є–±–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–µ—А–Є–ї.
–Ф—О–ї—П.
–†–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–Є.
–Ъ–∞—А–∞–љ–і–∞—И.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Љ–Њ—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г. –ѓ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї
–Ї–∞—Б—В—А—О–ї—М–Ї–Є, —Б—В–∞–≤–Є–ї –Є—Е –љ–∞ —Б—В–Њ–ї –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –µ—Б—В—М. –Ф—О–ї—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ
–Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, –Ї–∞–Ї —П –µ–Љ. –Т–µ—Б—М –µ–≥–Њ –≤–Є–і –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ —В–Њ–Љ,
—З—В–Њ
—Н—В–Њ –µ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ. –°—К–µ–≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Ї—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ, —П –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї
–і–Њ–µ—Б—В—М
–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ф—О–ї–µ. –Ґ–Њ—В –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –ґ–µ–Љ–∞–љ—Б—В–≤, —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞–ї –Ї –µ–і–µ. –Х—Б–ї–Є —П –µ–ї
–љ–µ
—В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М, —Б–Љ–∞–Ї—Г—П –Ї–∞–ґ–і—Г—О –ї–Њ–ґ–Ї—Г, —В–Њ –Ф—О–ї—П –њ–Њ–ґ–Є—А–∞–ї —Н—В–Њ —Б –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ
—П
–њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г. –°—К–µ–≤ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, —П –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ—В–ї–µ—В—Л –Ф—О–ї–µ, –Є–ї–Є
–і–∞–ґ–µ —Ж–µ–ї—Г—О –Ї–Њ—В–ї–µ—В—Г, –µ—Б–ї–Є –Є—Е –±—Л–ї–Њ –і–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –њ—А–Њ–≥–ї–∞—В—Л–≤–∞–ї —Б —В–∞–Ї–Њ–є
–ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О,
–±—Г–і—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–µ –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–∞. –•–Њ—В—П —З–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞—В—М
–Ф—О–ї–Є
—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —Г–±–Њ—А—Й–Є—Ж–µ–є, –Њ—В–µ—Ж –њ–Є–ї, –∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е —А—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ
—В—А–Њ–µ.
–Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ф—О–ї—П –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї –µ—Б—В—М –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ—В –Љ–µ–љ—П
—В–µ–њ–µ—А—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г –љ–µ—В, –Њ–љ —В—Г—В –ґ–µ, –љ–µ –њ—А–Њ—Й–∞—П—Б—М, —Г—Е–Њ–і–Є–ї, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤, —З—В–Њ —Г
–љ–µ–≥–Њ
–љ–∞–Ї–Њ–њ–Є–ї–∞—Б—М –Љ–∞—Б—Б–∞ –і–µ–ї. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ—Г–ї—М—В—Д–Є–ї—М–Љ–µ –њ—А–Њ –Т–Є–љ–Є –Я—Г—Е–∞ –Є –Я—П—В–∞—З–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤
–≥–Њ—Б—В–Є –Ї
–Ч–∞–є—Ж—Г. –≠—В–Є –≥–µ—А–Њ–Є —Е–Њ—В—М –Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л —Г–≤–∞–ґ–Є–ї–Є
–≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–Ч–∞–є—Ж–∞.
–Р –Ф—О–ї—П —В–∞–Ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ –љ–µ –±—Л–ї. –Ш –µ—Б–ї–Є, –≤—Л–є–і—П –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–і—Л –љ–∞
—Г–ї–Є—Ж—Г,
–Љ–µ–љ—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є –±–Є—В—М, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–Њ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ—Л–Љ, —В–Њ –Ф—О–ї—П –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г,
—Е–Њ—В—П –≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е –±—Л–ї–Њ –Є –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї—М—Ж–∞, –Є–±–Њ –Њ–љ –±—Л–ї
–Ј–∞–±–Є—П–Ї–∞ –Є –і—А–∞—З—Г–љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞—В—Г—А–µ, –Є —Б–њ—Г—Б–Ї—Г –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –Њ–±–Є–і—Л –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ
–і–∞–≤–∞–ї.
–Э–Њ, –љ–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤ –Њ–±–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –±—Л–ї —В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ
–Љ–µ—Б—В–µ,
–Є —Б –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ–є –Љ–Є–љ–Њ–є –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї:
- –°–ї–∞–≤–Є–Ї, –Ї–∞–Ї
—В–≤–Њ–Є
–і–µ–ї–∞? –Э–µ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –ї–Є —В–µ–±–µ –≤ —З—С–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М? –Ь–Њ–ґ–µ—В –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є –њ–Њ–Љ–Њ–є–љ–Њ–µ
–≤–µ–і—А–Њ?
–Ш –љ–µ –і–∞–≤ –Љ–љ–µ –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П, –Њ–љ –і–µ–ї–Њ–≤–Є—В–Њ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–Љ–Њ–є–љ–Њ–µ
–≤–µ–і—А–Њ,
–і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Љ—Г—Б–Њ—А–∞ –≤ –љ—С–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –і–Њ–љ—Л—И–Ї–µ. –Ч–∞—В–µ–Љ, –љ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П,
–Њ–љ
—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і, –≥–і–µ –≤—Б—С –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М –Є –Ї–Њ–љ—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —А–∞–Ј –Є
–љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О. –Ш —Н—В–Њ–Љ—Г —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О —П –±—Л–ї –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —А–∞–і, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г,
—З—В–Њ
—П –Ф—О–ї—О —Б—З–Є—В–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ.
–Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ–љ –±—Л–ї –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є—О? –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ,
–њ–Њ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–≤, –Њ–љ —Б–њ–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–є–і—П –њ–Њ —Б—В–Њ–њ–∞–Љ –Њ—В—Ж–∞. –Р —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ
–≤—Л—Б–µ–ї–Є–ї–Є –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Ј–∞ 101-—Л–є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А, –≥–і–µ –Њ–љ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –±–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Б–≤–Њ–є
–≤–µ–Ї.
–Ц–∞–ї—М. –ѓ –ї—О–±–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б —Г—В—А–∞ –Є –і–Њ –Њ–±–µ–і–∞.
–Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї–∞ –Є
–Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ
–Ъ—А–Њ–Љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–∞–ї–Њ–Ї, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є
–Њ—В–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ "–≤–∞–ґ–љ—Л–µ" –Ј–∞–љ—П—В–Є—П. –Э–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–∞—Е –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—М
–Љ—Л—И–µ–ї–Њ–≤–Ї–Є
–љ–∞ –≤–Њ—А–Њ–±—М—С–≤. –Т —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —П–Љ–µ, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є - –њ—А–Њ–љ–Ј–∞—В—М –ї—П–≥—Г—И–µ–Ї –њ–Є–Ї–Њ–є.
–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г–і–∞—З–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –і–≤—Г—Е. –£
–±–µ–і–љ—Л—Е –ї—П–≥—Г—И–µ–Ї –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є –±—А–∞—З–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і. –Э–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–µ,
–±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ –ї—П–≥—Г—И–Ї–Є!
–Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –≤–∞—В–∞–≥–∞, –Є –≤—Б–µ –±–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П –≤
–Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї—Г.
–Ґ–∞–Ї –Ј–≤–∞–ї–Є –љ–µ–≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О, –љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Г—О –Ї–∞–љ–∞–≤—Г –≤–і–Њ–ї—М –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є,
–њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞—О—Й—Г—О—Б—П –Њ—В –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–Њ—Б—Б–µ –і–Њ –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ—Л –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–∞. –Х—С –Ј–≤–∞–ї–Є
–Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є,
–Є–±–Њ –≤ –љ–µ—С –≤—В–µ–Ї–∞–ї–Є –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ—В—Л –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є—Е —Г–±–Њ—А–љ—Л—Е –Є –Љ—Г—Б–Њ—А–љ—Л—Е —П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Є —А–µ–і–Ї–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—И–Є–љ–∞–Љ–Є —Б —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ–Є —И–ї–∞–љ–≥–∞–Љ–Є,
—Б
–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–ї–Њ–≤–Њ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ —П–Љ —Б —И—Г–Љ–љ—Л–Љ –±—Г–ї—М–Ї–∞–љ—М–µ–Љ –Ј–∞—Б–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤
—Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Г —Б –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ, –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л–Љ –Њ–Ї–Њ—И–µ—З–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ
–Њ–Ї–Њ—И–µ—З–Ї–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Є–±–Њ –Ї—В–Њ –ґ–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ
–љ–∞—Б
–њ–Њ–і—Б–Ї–∞–ґ–µ—В –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—А—О, —З—В–Њ —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞ —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї–љ—С—Е–Њ–љ—М–Ї–∞, –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ –µ—С, —В–Њ–≥–Њ –Є
–≥–ї—П–і–Є, –њ–Њ–ї—М—С—В—Б—П –Ї –љ–∞–Љ –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–Є —З–µ—А–µ–Ј –Ї—А–∞–є?
–Ь–µ—Б—В–Њ —Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–є
–і–Њ—А–Њ–≥–Є, –≥–і–µ —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–∞ –Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї–∞.
–Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї–∞ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –ї–µ—В–∞ —В–∞–Ї –Ј–∞—А–∞—Б—В–∞–ї–∞ —В–Є–љ–Њ–є, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–є
–µ—Й—С
–љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –љ–∞–Љ –Є—Б–Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П. –Т–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ—Г—В–љ–Њ–є –Є
–Ј–ї–Њ–≤–Њ–љ–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤ –ґ–∞—А—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ –і–Њ —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–µ–є, - –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ—Б–≤–µ–ґ–Є—В—М—Б—П –Є –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–∞—В—М
–њ–Њ-—Б–Њ–±–∞—З—М–Є.
–Ъ—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞—А—И–µ, –Љ–Њ–≥–ї–Є –Є –Ї—А–Њ–ї–µ–Љ –Є –±–µ–Ј —А—Г–Ї. –Э–Њ –і–ї—П –љ–∞—Б, –Љ–µ–ї–Ї–Њ—В—Л - —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ
–љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ, –љ–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Ј–∞–≤–Є–і–љ–Њ. –Я–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ - –±–µ–Ј —А—Г–Ї! –Ґ—Г—В —Б —А—Г–Ї–∞–Љ–Є-—В–Њ
–њ–Њ—З—В–Є —В–Њ–љ–µ—И—М, —З—В–Њ —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Є —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М.
–Ч–Є–Љ–Њ–є –Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –ї—М–і–Њ–Љ. –Ш —В—Г—В –±—Л–ї–Њ
–≤–Њ–ї—М–≥–Њ—В–љ–Њ
–њ–Њ–Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—М–Ї–∞—Е. –Я–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –ї—М–і—Г —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ. –Ы—С–і —Б—А–∞–Ј—Г
–њ—А–Њ–≥–Є–±–∞–ї—Б—П, –Є –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—М—Б—П –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞—В—М—Б—П, –Є–љ–∞—З–µ –ї—С–і –љ–µ
–≤—Л–і–µ—А–ґ–Є—В –Є
—В—Л –≤ –≤–Њ–і–µ. –Э–Њ —Б–Љ–µ–ї—М—З–∞–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ.
–Ъ–∞—В–Є—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ–ї—В—Г—Б, –∞ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≤–Њ–ї–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Њ–≥–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П,
–њ–Њ—В—А–µ—Б–Ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –ї—М–і–∞. –Ґ–Њ–љ—Г–ї–Є, –љ–Њ
—В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–љ–Њ, - —Н—В–Њ –±—Л–ї —И–Є–Ї. –Ы—С–і –њ—А–Є
—Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–≥–Є–±–∞–ї—Б—П, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –і–Њ –і–љ–∞. –Р —Б–Ј–∞–і–Є —Б–Љ–µ–ї—М—З–∞–Ї–∞ –ї—С–і –і—Л–±–Є–ї—Б—П –≥–Њ—А–Њ–є.
–Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–∞ –Њ–±–≤–∞–ї–Њ–Љ. –Ч–µ–≤–∞–Ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–Љ. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
–љ–µ
–≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Є –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М —Г–≤–Є–і–µ–љ–љ–Њ–µ. –Э–µ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –І–∞—Й–µ
–≤—Б–µ–≥–Њ
–Є—Е —З—Г—В—М –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є –≤—Л—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ.
–Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –±–∞—А–∞–Ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Њ–±–љ–Њ. –£
–љ–∞—Б –ґ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї –Љ–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є! –Ш —Е–Њ–і–Є—В—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Љ—Л —Б–µ–±–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є
–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ. –Э–Њ, –≤—Б—С –ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і—Г—И–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ
–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Є
—З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б –љ–µ–є —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М
–≤
–Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ –љ–∞ –њ—А—Г–і—Л. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Э—Г, –Њ—З–µ–љ—М. –Э—Г, –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ!
–Ь–Є–љ—Г—В
30-—В—М
—Е–Њ–і—М–±—Л. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М —Б–µ–±–µ –љ–µ —З–∞—Б—В–Њ.
–Э–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –≤ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ –Њ—В –љ–∞—И–Є—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ –Є —И–ї–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–≤
–≥–Њ—А—Г –Ї –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–µ –Я–ї—О—Й–µ–≤–Њ.
–Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ –љ–∞
–Я–ї—О—Й–µ–≤–Њ –Ј–Є–Љ–Њ–є.
–Я–µ—А–µ–є–і—П —З–µ—А–µ–Ј –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і –љ–∞ –Я–ї—О—Й–µ–≤–µ, –Љ—Л –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г
–Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤—Г, –њ–Њ—А–Њ—Б—И–µ–Љ—Г —А–µ–і–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ—Б–љ–∞–Љ–Є –Є
–Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ъ 2009 –≥–Њ–і—Г —Н—В–Њ –њ–Њ–ї—Г–њ—Г—Б—В–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –њ–Њ–Ј–∞—А–Њ—Б–ї–Њ.
–Я—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Љ—Л –Љ–Є–Љ–Њ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–∞ "–£—А–Њ–ґ–∞–є", –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–µ–ї
–њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ—Г—О —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г, –љ–∞–≤–Њ–і–Є–≤—И—Г—О —Г–ґ–∞—Б –љ–∞ –љ–∞—И —А–Њ–і–љ–Њ–є
"–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А". –Т
–љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П 2000-—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А" –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П, –∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В
"–£—А–Њ–ґ–∞–є"
–Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В:
–°—В–∞–і–Є–Њ–љ "–£—А–Њ–ґ–∞–є"
–Я–Њ—Б–ї–µ "–£—А–Њ–ґ–∞—П" –і–Њ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ.
–Ш–Ј–Љ–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–µ –і–Њ–ї–≥–Є–Љ –њ—Г—В—С–Љ –њ–Њ–і —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ, –Љ—Л –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г
–њ—А—Г–і—Г:
–Т —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Љ—Л –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є —Н—В–Њ—В —Г–Ј–Ї–Є–є, –љ–Њ
–≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–є
–∞–њ–њ–µ–љ–і–Є–Ї—Б –њ—А—Г–і–∞, –і–µ—А–ґ–∞ —Б–≤–Њ—О –Њ–і–µ–ґ–і—Г –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–µ, –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є. –≠—В–Њ
—Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М —И–Є–Ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ, —В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ–і–µ–ґ–і—Г –Є –Њ–±—Г–≤—М –љ–∞
–≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ. –Э–∞–і —В–∞–Ї–Є–Љ –љ–µ–і–Њ—В—С–њ–Њ–є —Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М. –≠—В–Њ—В –њ—Г—В—М
–±—Л–ї
—Б–∞–Љ—Л–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ.
–Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Л–є—В–Є –љ–∞ —В–Њ—А–µ—Ж –∞–њ–њ–µ–љ–і–Є–Ї—Б–∞,
–љ–Њ
—Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–ї—М—И–µ. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –њ—Г—В—С–Љ –Є–і—В–Є —А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Г "–£—А–Њ–ґ–∞—П".
–Х—Б–ї–Є –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б –љ–µ–і–Њ—В—С–њ, —В–Њ –Є–Љ –і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М —Б–Ї–Є–і–Ї–Є –Є —И–ї–Є –љ–∞–Є—Б–Ї–Њ—Б–Њ–Ї –Ї
—В–Њ—А—Ж—Г –∞–њ–њ–µ–љ–і–Є–Ї—Б–∞ –њ—А—Г–і–∞.
–Ч–∞—В–Њ –≤ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–µ –±—Л–ї–∞ —З–Є—Б—В–∞—П –≤–Њ–і–∞. –Ш –љ–µ –њ–∞—Е–ї–∞. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–µ—А–µ–≥–Њ–љ–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В—Л "–Љ–Њ–≥—С—И—М", –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л—В—М –љ–∞ —В–Њ—В –±–µ—А–µ–≥
–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А—Г–і–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –≥—А–∞—Д–∞ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–∞.
–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї—Б—П –Ї–∞–ї–µ–Ї–∞, –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і –≤–Њ–є–љ—Л. –Ю–і–љ–Њ–є
–љ–Њ–≥–Є
—Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—И–µ –Ї–Њ–ї–µ–љ–∞. –°–Ї—А–Є–њ—Г—З–Є–є –њ—А–Њ—В–µ–Ј, –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞.
–Ь—Л
–ї—О–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ. –С—Л–ї –Њ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ, –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л–Љ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ
–њ–Њ–≤—Л—И–∞—О—Й–Є–Љ
–≥–Њ–ї–Њ—Б–∞. –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї —Б –љ–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Б —А–∞–≤–љ—Л–Љ–Є. –≠—В–Њ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Г –љ–µ–≥–Њ
–±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–і—В—П–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ —В—Г—А–љ–Є–Ї–µ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є,
–њ—А–∞–≤–і–∞, –±–µ–Ј –њ—А–Њ—В–µ–Ј–∞.
–Р –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А—Г–і –Њ–љ –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л–≤–∞–ї –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ, –њ—А–Є—З—С–Љ —В—Г–і–∞ –Є
–Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Ч–∞—З–µ–Љ –µ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Г–і–∞, –≤–µ–і—М –њ—А–Њ—В–µ–Ј –Њ–љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ –±—А–∞–ї. –Р –Љ—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Г–і–∞. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М, –Љ—Л —Г–ґ–µ –Њ–≥–Є–±–∞–ї–Є –њ—А—Г–і —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є. –Р –Њ–љ —В—Г–і–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Ч–і–Њ—А–Њ–≤–Њ! –≠—В–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П–ї–Њ.
–Ф–ї—П –љ–∞—Б
–Њ–љ –±—Л–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤–Є—З - –љ–µ–њ—А–µ—А–µ–Ї–∞–µ–Љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –≤–Њ –≤—Б—С–Љ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, -
—Н—В–Њ
—Б–µ–є—З–∞—Б —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ –±—Л–ї –Њ–љ —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й—С –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –њ–∞—А–љ–µ–Љ, –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 25-—В–Є, –Є —Г–ґ
–љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 30-—В–Є –ї–µ—В, —Е–Њ—В—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є —З—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ–±–Њ–ї–µ, - –љ–∞ —Б–∞–Љ—Г—О –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М.
–Ь—Л –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Њ —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –Њ –≤–Њ–є–љ–µ, –Њ–љ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ
—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї.
–Э–Њ —Б–∞–Љ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї, - –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М.
–Ш
–Ј–∞—З–µ–Љ –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —Н—В–Њ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ. –Э–µ –≤—Б–µ–Љ –ґ–µ —Н—В–Њ
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В—М. –Э–µ –±–Њ–ї—В–∞–є, —З—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–њ–∞–і—П, –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є. –Ю–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ —Н—В–Њ –љ–µ
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ. –Ш–љ—Л–µ –Љ–µ–ї—О—В –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ —Б–µ–±–µ,
–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ,
–≤—Б—П–Ї—Г—О —В–∞–Љ —З—Г—И—М. –Э–Њ —Н—В–Њ –ґ–µ —В–Њ—Б–Ї–∞ —Б–ї—Г—И–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ–±–µ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –∞
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї—Г...
–≠—В–Њ —П –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї, –љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞
–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–њ–Њ–Ј–ґ–µ. –≠—В–∞–Ї –ї–µ—В –љ–∞ 20-—В—М. –Э–µ—В, –љ–∞ 30-—В—М. –•–Њ—В—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –љ–∞ –≤—Б–µ 50-—П—В. –Ш —Г–ґ
—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, —В–Њ –љ–∞ 60-—П—В. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ
—Б–µ–є—З–∞—Б
–Љ–љ–µ 70-—П—В ...
–С—Л–≤–∞–ї–Њ, –Є–і—Г —П, –Љ–∞–ї–µ—Ж, –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —И–Є—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж—Л,
–Ї–∞–Ї
–Љ–љ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤–µ–і—С—В –Ї –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–µ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–∞.
"–®–Є—А–Њ—З–µ–љ–љ–∞—П"
—Г–ї–Є—Ж–∞ –Ї –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–µ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–∞.
–§–Њ—В–Њ
2009
–≥–Њ–і–∞.
–Р –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤–Є—З —Е—А–Њ–Љ–∞–µ—В —Б —В—А–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є
—Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ. –Т—А–Њ–і–µ –±—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М. –Э—Г, –Ї—В–Њ —В–∞–Љ –Є–і—С—В? –Љ–µ–ї—О–Ј–≥–∞, –љ–µ
—Б—В–Њ–Є—В
–≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Э–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–Њ–Љ! –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞
–њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ –Љ–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Н—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –Љ–µ–љ—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ,
–Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —Ж–µ–љ–Є—В –Є —Г–≤–∞–ґ–∞–µ—В. –ѓ —Н—В–Њ–Љ—Г, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–і, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї —А—Г–Ї—Г
–≤–≤–µ—А—Е, –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ –Љ–∞—Е–∞–ї –µ–Љ—Г –Є –Ї—А–Є—З–∞–ї –љ–∞ –≤—Б—О —Г–ї–Є—Ж—Г:
- –Ч–і—А–∞—Б—М—В–µ, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤–Є—З!
–•–Њ—В—П, —З—В–Њ —В–∞–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Ї—А–Є—З–∞—В—М? –£–ї–Є—Ж-—В–Њ –≤ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–µ
—И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ю–љ –Љ–љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –Ї–∞–Ї
–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–Љ—Г, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–∞–ї–µ–µ.
–Ш –≤—Б—С! –Ъ–∞–Ї
–≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ!
–Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ! –Ъ–∞–Ї –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ! –£–≤–∞–ґ–∞–є –і–∞–ґ–µ —А–µ–±—С–љ–Ї–∞, –≤–µ–і—М —Н—В–Њ —В–∞–Ї –љ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ. –ѓ —Н—В–Њ
—Ж–µ–љ–Є–ї –Є –±—Л–ї —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤! –Ь–µ–љ—П –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В,
–Љ–µ–љ—П —Г–≤–∞–ґ–∞—О—В. –Ш –і–∞–ґ–µ —Ж–µ–љ—П—В. –•–Њ—В—П –Ј–∞ —З—В–Њ? –ѓ –µ—Й—С –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М
—Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ. –Э–Њ, –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ! –≠—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞. –Т–µ–і—М –і–∞–ї—М—И–µ-—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –Р
–њ–Њ–Ї–∞
—В—Л –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ. –≠—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б—В–∞—В—М –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е. –Э–Њ, –њ–Њ–Ї–∞
–њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П...
–°–∞–Љ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж-–Љ—Г–Ј–µ–є –≤ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–µ –љ–∞—Б –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ
–љ–µ
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї. –Э—Г —З—В–Њ —В–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ? –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є –Љ—Л —Б
–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ
—В—Г–і–∞ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г–ї–Є.
–Я–Њ–і–љ—П–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ –±—А—Г—Б—З–∞—В–Ї–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ—Ж —Б–±–Њ–Ї—Г —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ
–≤—Е–Њ–і–∞,
–Њ—В–Ї—А—Л–≤ —В—П–ґ–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –і–≤–µ—А—М, –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Г –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —П—Й–Є–Ї–∞,
–Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —И–ї—С–њ–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є —Б –Ј–∞–≤—П–Ј–Ї–∞–Љ–Є: –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Ж–µ–њ–Є—В—М –Є—Е –љ–∞ –љ–∞—И–Є –≥—А—П–Ј–љ—Л–µ
–±–∞—И–Љ–∞–Ї–Є,
—З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Є—Б–њ–∞—З–Ї–∞—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є –њ–∞—А–Ї–µ—В.
–®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є
–і–≤–Њ—А–µ—Ж.
–Я–Њ—А–∞–Ј–Є–ї, –њ—А–µ–ґ–і–µ
–≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–∞–Љ –њ–∞—А–Ї–µ—В: —В–∞–Ї–Њ–µ –Љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–љ –±—Л–ї
–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ
–љ–∞—З–Є—Й–µ–љ. –Т –њ–∞—А–Ї–µ—В–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–µ, –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л,
–Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–Ї–Є, –Њ–Ї–љ–∞, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–Є. –°–≤–µ—А—Е—Г –±—Л–ї–Є
–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–љ—Л–µ –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–Є —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –ї—О—Б—В—А–∞–Љ–Є. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е –±—Л–ї–Є
—Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л
–Ї–∞–љ–і–µ–ї—П–±—А—Л —Б –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–µ–є –њ–Њ–і —Б–≤–µ—З–Є.
–Ь—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–ї–∞–Љ, –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ,
–њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї, –Ї–∞—А—В–Є–љ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–є –Љ–µ–±–µ–ї–Є.
–Т—Б—С —Н—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Њ –љ–∞—Б, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є—Е –Ї –і–Њ—Б—З–∞—В–Њ–Љ—Г,
–Њ–±–ї—Г–њ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –њ–Њ–ї—Г, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –Њ–Ї–љ–∞–Љ —Б –≥—А—П–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б—В—С–Ї–ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–є
–Љ–µ–±–µ–ї—М—О.
–° –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ
–љ–∞
–љ–∞—Б —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –±—Л–≤—И–Є–µ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞. –Э–∞ –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ
–Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ —И–њ–∞–≥–Њ–є –Є –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ—А—В—А–µ—В—Л –і–∞–Љ
–±—Л–ї–Є
—Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –∞—В–ї–∞—Б–Њ–Љ, —И–µ–ї–Ї–∞–Љ–Є –Є –Ї—А—Г–ґ–µ–≤–∞–Љ–Є.
–Э–∞–і–Њ –ґ–µ, - –і—Г–Љ–∞–ї–Є
–Љ—Л,
–≥–ї–∞–Ј–µ—П –љ–∞ –љ–Є—Е, - –ґ–Є–ї–Є –≤—Л —В–∞–Ї –±–Њ–≥–∞—В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Љ —В–∞–Ї–Њ–µ –Є –љ–µ —Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ
–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –≤—Л –Є–Љ–µ–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М —Б–µ–±–µ —В–∞–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М? –°–Њ—В–љ–Є, —В—Л—Б—П—З–Є?
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ
—Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –≤–∞–Љ –Ј–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –њ—А—Г–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–∞—И–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–µ, –њ–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О,
–≤—Л–Ї–Њ–њ–∞–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –Њ–і–љ—Г –љ–Њ—З—М. –Ш –Љ—Л
–±–µ–Ј
—Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≤—Б—О —Н—В—Г —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М, –њ–Њ–є–і—П –Ї—Г–њ–∞—В—М—Б—П –≤ –њ—А—Г–і, –≤—Л–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–є –і–≤–∞
—Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –љ–∞–Ј–∞–і.
–•–Њ—А–Њ—И–Њ
–ї–µ–ґ–∞—В—М
–љ–∞ —В—А–∞–≤–Ї–µ —Г –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А—Г–і–∞. –Э–Њ –≤–µ–і—М —В–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В —В–Њ—Б–Ї–Є –Є –њ–Њ–Љ–µ—А–µ—В—М. –Э–∞–і–Њ
—З—В–Њ-—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М. –Ш —Г–і—Г–Љ–∞–ї–Є. –Т–Є–і–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –і—Г–Љ–∞–ї–Є –≤—Б—С —В–µ–Љ–Є –ґ–µ —Ж—Л–њ–ї—П—З—М–Є–Љ–Є
–Љ–Њ–Ј–≥–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є —Г –љ–∞—Б –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Њ–і–љ–Є:
- –І—В–Њ —Н—В–Њ –Љ—Л –≤—Б—С –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Ї—Г –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л–≤–∞–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Г–і–∞? –Э–∞–і–Њ –Є
—В—Г–і–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –љ–∞–њ–µ—А–µ–≥–Њ–љ–Ї–Є! –Э–∞ –Њ—В–і—Л—Е —В–∞–Љ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ —В—А–∞—В–Є—В—М, - —Б—А–∞–Ј—Г
–ґ–µ
–Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –£–ґ–µ –љ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ. –Т–Њ–љ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –і—Л–ї–і—Л –≤—Б–µ —Б—В–∞–ї–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г–ґ–µ –њ–Њ
—В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М, –∞ –Њ–љ–Є –≤—Б—С –µ—Й—С –Љ–∞–Љ–µ–љ—М–Ї–Є–љ—Л —Б—Л–љ–Ї–Є. –Я–Њ—А–∞ —Б—В–∞—В—М —Г–ґ–µ –Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞–Љ–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Њ:
—Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –±–µ–Ј –Њ—В–і—Л—Е–∞. –≠—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ—А—Г–і —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є.
–Ъ–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ
—В–∞–Љ –њ–∞—А—И–Є–≤—Л—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В, –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ. –Э—Г, –µ—Б–ї–Є –Є –±–Њ–ї–µ–µ, —В–Њ –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞ —Б—В–Њ.
–Ф–∞! –Т—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–Њ–≥—Г –Є–ї–Є —А—Г–Ї—Г —Б–≤–µ–і–µ—В —Б—Г–і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є,
—В–Њ
–љ—Г–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—В—М –µ—С –Є–≥–Њ–ї–Ї–Њ–є? –Т—Б–µ? –≠—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ю—А–ї—Л! –У–Њ—А–і–Є—В—М—Б—П –њ–Њ—В–Њ–Љ –±—Г–і–µ–Љ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ. –Т—Б–µ–Љ –±—Г–і–µ–Љ
—Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М,
—З—В–Њ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Ї—Г —В—Г–і–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Љ–∞—Е–Њ–Љ –Њ–і–Њ–ї–µ–ї–Є. –Ш –±–µ–Ј –Њ—В–і—Л—Е—Г. –Ъ—А–∞—Б–Њ—В–∞!
–Э–Њ, –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—Б —З—Г—В—М –љ–µ —Г—В–Њ–љ—Г–ї. –°–≤–µ–ї–Њ
–љ–Њ–≥—Г –Њ—В –њ–µ—А–µ–љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П. –Т–Є–і–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є, –∞ –њ–Њ–±–Њ—П–ї—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М—Б—П.
–Ч–∞—Б–Љ–µ—О—В. –Ш –њ–Њ–њ–ї—Л–ї –±–µ–Ј –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є. –Э–∞–і–Њ –ґ–µ, —З—Г—В—М –љ–µ —Г—В–Њ–љ—Г–ї! –†–∞–Ј–Њ—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Б—О
–Њ–Ї—А—Г–≥—Г!
–°–њ–∞—Б–∞–є —В—Г—В –µ–≥–Њ! –°–∞–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В! –° –Є–≥–Њ–ї–Ї–Њ–є –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞—О—В—Б—П. –Р —В—Г—В –љ–∞
—В–µ–±–µ! –Э–∞–≥–ї–Њ—В–∞–ї—Б—П –≤–Њ–і—Л, —В—А—П—Б—С—В—Б—П –Њ—В —Б—В—А–∞—Е–∞, –≤–µ—Б—М –њ–Њ–Ј–µ–ї–µ–љ–µ–ї. –Ш –љ–µ—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ
—А–∞—Б—В—П–њ—Г –ґ–∞–ї–µ—В—М. –Ґ–∞–Ї –µ–Љ—Г –Є –љ–∞–і–Њ. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј –њ—Г—Б—В—М –Є–≥–Њ–ї–Ї—Г –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—В...
–Э–µ–і–Њ–µ–і–µ–љ–љ—Л–є —Б—Г–њ—З–Є–Ї
–°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Ї –љ–∞–Љ –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –і–∞–ї—М–љ—П—П
—А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Ю–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –њ—А–Њ —Г–ґ–∞—Б—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є
–≤
–±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ. –Ъ–∞–Ї —Б—К–µ–ї–Є –≤—Б–µ—Е –Ї–Њ—И–µ–Ї –Є —Б–Њ–±–∞–Ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї—А—Л—Б –Є –Љ—Л—И–µ–є, –∞
–њ–Њ—В–Њ–Љ
—Б—В–∞–ї–Є –µ—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Є —В—А—Г–њ—Л —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—И–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М–љ–Њ –Є
—Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –Ь–∞–Љ–∞ —Б–Є–і–µ–ї–∞ –Є —Б–ї—Г—И–∞–ї–∞ —Б–Њ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ–Є –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М
–њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О —В–µ–Љ—Г, –љ–Њ —В—С—В—П –Т–∞—А—П –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–µ –Є –≥–Њ–ї–Њ–і–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–µ –Є
—Е–Њ–ї–Њ–і–µ. –Ь—Л —З–µ–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–ї–Є –µ—С, –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —З—В–Њ –≤—Б—С –њ–Њ–Ј–∞–і–Є, –і–∞–≤–∞–є –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ
–Њ
—З—С–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –љ–Њ –љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ.
–Ь–∞–Љ–∞ –Є—Б–њ–µ–Ї–ї–∞ –±–ї–Є–љ—З–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Ї—Г—Б–љ—Л—Е —А–ґ–∞–љ—Л—Е –ї–µ–њ—С—И–µ–Ї –љ–∞
–Љ–∞—А–≥–∞—А–Є–љ–µ. –Я–Њ–µ–ї–Є —Б—Г–њ—З–Є–Ї—Г —Б –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є –Є –≤–µ—А–Љ–Є—И–µ–ї—М–Ї–Њ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–њ–Є–ї–Є —З–∞–є–Ї—Г —Б
—Б–∞—Е–∞—А–Ї–Њ–Љ –≤–њ—А–Є–Ї—Г—Б–Ї—Г, –Є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ –Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–і—В–Є –Ї–Њ–љ–µ—Ж,
–љ–Њ
—В—С—В—П –Т–∞—А—П –Њ–њ—П—В—М —Б—В–∞–ї–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –µ—С –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Г–Љ–Є—А–∞–ї–Є –µ—С –і–µ—В–Є
–Њ—В
–≥–Њ–ї–Њ–і–∞, –∞ –Њ–љ–∞ –Є–Љ –і–∞—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Љ–∞–Љ–∞ –≤–Ј–Љ–Њ–ї–Є–ї–∞—Б—М:
- –Т–∞—А—О—И–∞,
–і–Њ—А–Њ–≥–∞—П,
—Е–≤–∞—В–Є—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ, —Г–Љ–Њ–ї—П—О —В–µ–±—П! –Э–µ —Е–Њ—З–µ—И—М –ї–Є –µ—Й—С —Б—Г–њ—З–Є–Ї—Г?
- –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ,
–Ь–∞—И–∞, —П
–љ–∞–µ–ї–∞—Б—М –і–Њ –Њ—В–≤–∞–ї–∞, - –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П. - –С–Њ—О—Б—М, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ
–ї–Њ–њ–љ—Г—В—М.
–Э–∞ —В–Њ–Љ –Є –њ–Њ—А–µ—И–Є–ї–Є, - –≤—Б–µ –ї–µ–≥–ї–Є —Б–њ–∞—В—М. –Ь—Л —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ
—Г—Б–љ—Г–ї–Є, –∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П –Ј–∞—Б–љ—Г—В—М —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞. –Ю–љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є,
–≤–Њ—А–Њ—З–∞–ї–∞—Б—М, –љ–Њ —Б–Њ–љ –Ї –љ–µ–є –љ–µ —И—С–ї. –Ь—Л —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –і–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–љ,
–Ї–Њ–≥–і–∞
—В—С—В—П –Т–∞—А—П –≤–і—А—Г–≥ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–∞ —Б–≤–µ—В.
- –Ґ—Л —З—В–Њ –љ–µ
—Б–њ–Є—И—М,
–Т–∞—А–≤–∞—А–∞? - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –µ—С –Љ–∞–Љ–∞.
- –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М –ї–Є,
-
–Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ —В–∞, - –≤ –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—М–Ї–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–њ–∞, –Є —Н—В–Њ –љ–µ –і–∞—С—В –Љ–љ–µ
–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б–љ—Г—В—М.
- –Э—Г, —В–∞–Ї –і–Њ–µ—И—М
–µ–≥–Њ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞, - –і–∞ –і–∞–≤–∞–є —Б–њ–∞—В—М.
–Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї
—В—С—В—П –Т–∞—А—П –і–Њ–µ–ї–∞ —Б—Г–њ—З–Є–Ї, –Њ–љ–∞ —В—Г—В –ґ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Є –Ј–∞—Б–љ—Г–ї–∞.
–Я–Њ–≥–Њ—Б—В–Є–≤
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ,
—В—С—В—П –Т–∞—А—П —Г–µ—Е–∞–ї–∞ –Ї —Б–µ–±–µ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –∞ –Љ—Л —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ј–∞–±—Л—В—М
—Н–њ–Є–Ј–Њ–і —Б –љ–µ–і–Њ–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—Г–њ—З–Є–Ї–Њ–Љ. –°–∞–Љ–Є –Љ—Л –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В–∞–Ї –љ–µ
–≥–Њ–ї–Њ–і–∞–ї–Є,
–Ї–∞–Ї —В—С—В—П –Т–∞—А—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л, –Є –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, - –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ
—Б—Л—В–љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–Є–љ–∞ –µ—Й—С –Є –і–Њ–µ–і–∞—В—М —Б—Г–њ—З–Є–Ї.
–Я—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Ж—Л –Є –њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж—Л
–Т —В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –і–≤–Њ—А–∞–Љ —Е–Њ–і–Є–ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ
–њ—А–µ–і–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤—Л–µ –ї—О–і–Є. –І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ —Г—В—А–∞–Љ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ—Л–µ, –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ—Л–µ
–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б—Л:
- –І–Є–љ–Є—В—М, –њ–∞—П—В—М, —Б—В—С–Ї–ї–∞ –њ–Њ—З–Є–љ—П—В—М.
–≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ-—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г,
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –±–Є–Ј–љ–µ—Б–∞ - —Г–Љ–µ–ї–µ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ—Б —Б —Б–Њ–±–Њ–є –љ–∞ –њ–ї–µ—З–µ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є
–Ї–Њ—А–Њ–± —Б –Њ—Ж–Є–љ–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –ґ–µ—Б—В—М—О –Є —Б—В—С–Ї–ї–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ—А–Њ–± —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–є, –љ–Њ
—И–Є—А–Њ–Ї–Є–є.
–Э—С—Б –Њ–љ —Б–≤–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–± –љ–∞ —А–µ–Љ–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –љ–Њ—Б—П—В —Б–≤–Њ–Є —А—Г–ґ—М—П. –Ш–Ј –Њ–Ї–Њ–љ
–≤—Л—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М
—Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є–µ, —Е–≤–∞—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ—Е—Г–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤—С–і—А–∞, –Ї–∞—Б—В—А—О–ї–Є, –Ї–Њ—А—Л—В–∞ –Є —В–∞—Й–Є–ї–Є –≤—Б—С
—Н—В–Њ
–ґ–µ—Б—В—П–љ—Й–Є–Ї—Г. –Ю–љ —В—Г—В –ґ–µ, –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ, –≤—Б—С —Н—В–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —З–Є–љ–Є–ї, –њ–∞—П–ї –Є –њ–Њ—З–Є–љ—П–ї.
–Я–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—М –Є –Ї–Њ—А—Л—В –Њ–љ –≤—Б–µ–Љ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –≤
–Њ–Ї–љ–∞
—Б—В—С–Ї–ї–∞, –Є–±–Њ —Б—В—С–Ї–ї–∞ –≤ –љ–∞—И–Є—Е –і–Њ–Љ–∞—Е –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ –±–Є–ї–Є—Б—М. –Р –Њ—В—З–µ–≥–Њ –Є–Љ –љ–µ
–±–Є—В—М—Б—П-—В–Њ?
–Т–µ–і—М —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ —Г –љ–∞—Б, —А–µ–±—П—В–љ–Є, –±—Л–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є. –Ш
–Њ–±—И–∞—А–њ–∞–љ–љ—Л–є
–Љ—П—З –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–µ—В–µ–ї –љ–µ –≤ –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Є–Ј –і–≤—Г—Е
–Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є,
–∞ –љ–Њ—А–Њ–≤–Є–ї –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б—В—С–Ї–ї–∞. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Љ—П—З—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ј–≤—Г–Ї–Є
—А–∞–Ј–±–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Б—В–µ–Ї–ї–∞, —З–µ–Љ –љ–∞—И–Є —Б–њ–Њ—А—Л –Њ —В–Њ–Љ –њ–Њ–њ–∞–ї –ї–Є –Љ—П—З –≤ —Б—В–≤–Њ—А –≤–Њ—А–Њ—В, –Є–ї–Є
–Њ–љ
–њ—А–Њ—И—С–ї –Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–є —И—В–∞–љ–≥–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞, –љ–∞ –і–≤–∞ —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–∞
–њ—А–∞–≤–µ–µ.
–Э–Њ –љ–∞—Б, —А–µ–±—П—В–љ—О, –±–Њ–ї—М—И–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ
"–њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж—Л".
–≠—В–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –љ–∞—И–Є—Е –і–≤–Њ—А–∞—Е –±–µ–Ј –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ—Л—Е, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ—Л—Е –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–≤. –Т –Є—Е
—А—Г–Ї–∞—Е
–≤—Б–µ–≥–і–∞ —В–Њ—А—З–∞–ї–Є –Ј–∞–Љ—Г—Б–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Г–љ–і—И—В—Г–Ї–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ
–Ј–≤—Г–Ї–Є:
- –£–і–Є-—Г–і–Є.
–≠—В–Є –Ј–≤—Г–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–≤–Њ—А–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ. –Ю–љ–Є –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ–Љ,
–≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г. –Э–µ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–∞—Б —В–Њ–≥–і–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –і–µ–ї, —З–µ–Љ
—Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М
—Н—В–Є –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ—Л–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є. –Ь—Л –≥—Г—А—М–±–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є –Є–Ј–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П —Н—В–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л—Е –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤.
–Ч–∞–≤–Њ—А–Њ–ґ—С–љ–љ—Л–µ, –Љ—Л —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤ —Б —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ,
–љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –і—Г–ї –≤ –Љ—Г–љ–і—И—В—Г–Ї: –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г –љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—Г–≤–∞–ї—Б—П
—Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є
—И–∞—А–Є–Ї. –Ь—Г–ґ–Є–Ї –Ј–∞–ґ–Є–Љ–∞–ї –Љ—Г–љ–і—И—В—Г–Ї –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ, –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—П
–≤—Л—Е–Њ–і
–≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –љ–∞–і—А—Л–≤–љ—Л–є, –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –≤–Є–Ј–≥–ї–Є–≤—Л–є –Ј–≤—Г–Ї,
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ
—А–∞–Ј–ї–µ—В–∞—О—Й–Є–є—Б—П –љ–∞ –≤—Б—О –Њ–Ї—А—Г–≥—Г.
–≠—В–Њ –±—Л–ї
—Б—В–∞—А—М—С–≤—Й–Є–Ї. –Ю–љ –љ–µ –љ—С—Б –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ–ї–µ—З–µ —В—П–ґ—С–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–±–∞, –Ї–∞–Ї –ґ–µ—Б—В—П–љ—Й–Є–Ї. –Ю–љ
–њ—А–Є—И—С–ї
–Ї –љ–∞–Љ —Б –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–Њ–є. –Т –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї—Г –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–∞ —Б—В–∞—А–∞—П –Ї–ї—П—З–∞. –Т –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–µ
–≥–Њ—А–Њ–є –і—Л–±–Є–ї–Њ—Б—М —В—А—П–њ—М—С. –£—В–Є–ї—М—Й–Є–Ї, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, –і—Г–ї –≤ —Б–≤–Њ—О —Б–≤–Є—Б—В—Г–ї—М–Ї—Г.
–°–Њ–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞. –Ф–µ—В–Є—И–Ї–Є —Е–Њ—А–Њ–Љ –Ї–ї—П–љ—З–Є–ї–Є:
- –Ф—П–і—М, –і–∞–є –њ–Њ–і—Г–і–µ—В—М.
–£—В–Є–ї—М—Й–Є–Ї —Б–≤–Є—Б—В—Г–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–і—Г–і–µ—В—М –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї, –љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї
–њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М
–µ—С –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–µ —В—А—П–њ—М–µ. –Ь–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –і—Г—И–Є. –І–µ—А–µ–Ј
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –≤—Б–µ —А–µ–±—П—В–Є—И–Ї–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М —Г —Б—В–∞—А—М—С–≤—Й–Є–Ї–∞. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е
–≤
—А—Г–Ї–∞—Е –Є–Љ–µ–ї —В–Њ, —З—В–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–∞—Й–Є—В—М –Є–Ј –і–Њ–Љ—Г. –Э–∞–є—В–Є –≤ –і–Њ–Љ–µ —Б—В–∞—А–Њ–µ, –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ–µ
—В—А—П–њ—М—С —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –≤—Б–µ–Љ, - –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ—В–Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Е–Њ—В—М –Є —Б—В–∞—А—Л–µ, –љ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ
–њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –≤–µ—Й–Є, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–Њ–≤. –£—В–Є–ї—М—Й–Є–Ї –Ј–∞
–Ї–∞–ґ–і—Г—О –≤–µ—Й—М –і–∞–≤–∞–ї –њ–Њ "–£–і–Є-—Г–і–Є". –°—З–∞—Б—В—М—О –і–µ—В–Є—И–µ–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞.
"–£–і–Є-—Г–і–Є"
—А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б —Г—В—А–∞ –Є –і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ —Ж–µ–ї—Л–Љ –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–Њ–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ.
–°—З–∞—Б—В—М—О
—А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–і–µ–ї –±—Л–ї: –Ї—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Ї–Њ—Д—В–Њ—З–Ї–Є, –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Є–і–ґ–∞–Ї–∞, –∞ –Ј–≤—Г–Ї–Є
"–£–і–Є-—Г–і–Є"
–љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ—П –њ–Њ—А–Њ—О –і–∞–ґ–µ –љ–Њ—З—М—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≥–Њ—А—И–Њ—З–µ–Ї.
–•–Њ—А–Њ—И–Њ,
—З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞–і–Њ–µ–і–∞–ї–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ–є —А–µ–±—П—В–љ–µ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є, –≤–Њ –і–≤–Њ—А–∞—Е
–≤–Њ—Ж–∞—А—П–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–Њ–є, –љ–Њ –љ–µ –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –І–µ—А–µ–Ј –Љ–µ—Б—П—Ж —Г—В–Є–ї—М—Й–Є–Ї —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П —Б–Њ
—Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–±—Л–ї–Њ–є,
–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є "–Т–Є—В–Њ–Ї –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є".
–Я–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –љ–∞—И–Є—Е –±–∞—А–∞–Ї–∞—Е –Є –∞—Д–µ—А–Є—Б—В—Л. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —Б–Є–ґ—Г —П –і–Њ–Љ–∞
–Є
–љ–µ –Ј–љ–∞—О —З–µ–Љ —Б–µ–±—П –Ј–∞–љ—П—В—М. –†–∞–Ј–і–∞—С—В—Б—П —Б—В—Г–Ї –≤ –Љ–Њ—О, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О –љ–∞
–Ј–∞—Й—С–ї–Ї—Г –і–≤–µ—А—М. –ѓ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О –і–≤–µ—А—М, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П.
–Э–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ —Б—В–Њ–Є—В –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞—П –Љ–љ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Є –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В
–Љ–µ–љ—П:
- –Ч–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤—С—В –Ь–∞—А–Є—П?
–ѓ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Љ–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —Г –љ–µ—С –Ї
–Љ–Њ–µ–є
–Љ–∞–Љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ.
- –Р –≥–і–µ —В–≤–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞? - —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В
–Њ–љ–∞.
–ѓ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О, —З—В–Њ –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В:
- –Р —Б–Ї–Њ—А–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–і—С—В?
- –Ф–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б–Є–Ї, - –Њ—В–≤–µ—З–∞—О
—П.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П
–Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ—Л, –љ–∞ —З—В–Њ —П –і–∞—О —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Г—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Б—В—Г–ї,
–≤–µ–і—С—В
—Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–Њ–≥, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г.
–°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В, –µ—Б—В—М –ї–Є —Г –Љ–µ–љ—П –Њ—В–µ—Ж, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞. –ѓ
–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –њ–Њ-–і–µ–ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г, –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –µ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О, —З—В–Њ –Љ–Њ—П
–Љ–∞–Љ–∞
–Є–љ–≤–∞–ї–Є–і –≤—В–Њ—А–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –≤ –Љ–µ—А—Г —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Є–ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ
—Б–∞–і–Є–Ї–µ. –Р –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В–∞ —Г –љ–µ–є —Ж–µ–ї—Л—Е 38-–Љ—М —А—Г–±–ї–µ–є –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б—В—М –і–µ–љ–µ–≥ —Г
–љ–µ—С
–≤—Л—З–Є—В–∞—О—В –Ј–∞ –њ–Є—В–∞–љ–Є–µ.
–Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Љ–µ–љ—П –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞–µ—В, –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–µ–є
–Љ–∞–Љ–µ
–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –њ–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Є –і–∞–≤–љ–Њ –µ—С –Ј–љ–∞–µ—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:
- –І—В–Њ-—В–Њ —Б–µ–Љ–µ—З–µ–Ї –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М. –ѓ —В–µ–±–µ –і–∞–Љ –њ—П—В–∞—З–Њ–Ї, –∞ —В—Л
—Б–±–µ–≥–∞–є, –і–∞ –Ї—Г–њ–Є —Б–µ–Љ–µ—З–µ–Ї. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –ї–Є —Г –≤–∞—Б —В—Г—В —Б–µ–Љ–µ—З–Ї–Є
–њ—А–Њ–і–∞—О—В—Б—П?
–ѓ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є —А—П–і–Њ–Љ - —Г –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–Є. –ѓ –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ. –Э–Њ
—В—Г—В –≤—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞.
–Т–Є–і
–Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –≤–Њ –і–≤–Њ—А. –Ь–∞–Љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —Б —А–∞–±–Њ—В—Л.
–Ь–∞–Љ–∞ –≤–Є–і–Є—В —Г –љ–∞—Б —Н—В—Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г –Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В
–µ—С:
- –У—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–∞, –Ї—В–Њ –≤—Л –Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г
–Ј–і–µ—Б—М?
–У—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –≤—Б—В–∞–ї–∞ —Б–Њ —Б—В—Г–ї–∞, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–≤ –Љ–∞–Љ—Г: - "–Ч–і–µ—Б—М
–ї–Є
–ґ–Є–≤—С—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З?" - –Ш –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ –љ–∞—И—Г –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г, –љ–µ
–і–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є—Б—М
–Њ—В–≤–µ—В–∞.
–Ь–∞–Љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –Њ–± —Н—В–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ, –Ј–љ–∞—О –ї–Є —П
–µ—С,
–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–љ–∞ –Љ–љ–µ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї–∞.
–Ъ–Њ–≥–і–∞
–Љ–∞–Љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Њ—В –Љ–µ–љ—П –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л, —В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞
–∞—Д–µ—А–Є—Б—В–Ї–∞, –Є –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–∞ –µ—Й—С –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ, —В–Њ —Н—В–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞
—Г—В–∞—Й–Є–ї–∞
–±—Л –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л —В–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П...
–Ш–Ј–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Є—В–∞–љ–Є–Є —Г –љ–∞—Б —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є, –і–∞ –Є —Г –≤—Б–µ—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є
–±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –±—Л–ї–Є —Е—Г–і—Л–Љ–Є –Є –њ–Њ–і–ґ–∞—А—Л–Љ–Є,
—З—В–Њ
–љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ —И–ї–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О - –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–ї. –Ц–∞–ї—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—И–∞ –њ–Є—Й–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М
–Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞. –Ъ–Њ–ї–±–∞—Б—Г –Є–ї–Є –Љ—П—Б–Њ –Љ—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є, –∞ —В–∞–Ї —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М.
–Ц–µ–ї–∞—П
–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –±—О–і–ґ–µ—В, –Љ–∞–Љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ–є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г. –≠—В–Њ—В –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –≤—Б—В–∞–≤–∞–ї
—А–∞–љ–Њ
—Г—В—А–Њ–Љ, –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞–ї —З–∞–µ–Љ —Б –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і–∞–Љ–Є, –љ–∞–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —Б–ї–Є–≤–Њ—З–љ—Л–Љ
–Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –Љ–∞—А–≥–∞—А–Є–љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л. –Ч–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є —Г–ґ–Є–љ–Њ–Љ —Г
–љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї—М—Ж–∞ –њ–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–∞ –і–∞–ґ–µ –Є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–∞, –љ–Њ –Њ–љ –µ—О –љ–∞—Б –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–≥–Њ—Й–∞–ї.
–Т
—В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Љ–∞–Љ–∞ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–і —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г, —З—В–Њ–±—Л —П –љ–µ
—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї—М—Ж—Г –≤ —А–Њ—В.
–І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї–µ—Ж —Б—К–µ–і–∞–ї –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–µ—Б—Л –Ј–∞ —А–∞–Ј,
–Є–±–Њ
—Е–Њ–ї–Њ–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г –љ–∞—Б –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Њ–љ –Ї—Г–њ–Є–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —В—А–µ—Б–Ї—Г –≥–Њ—А—П—З–µ–≥–Њ
–Ї–Њ–њ—З–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б—В–Њ—П–ї–µ—Ж –њ–Њ–Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞–ї, –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–ї —В—А–µ—Б–Ї—Г –≤ –≥–∞–Ј–µ—В—Г –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ—С –љ–∞
–њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї, —Г–є–і—П –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г. –Ь—Л —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–∞. –Ю—В –Ї–Њ–њ—З—С–љ–Њ–є —В—А–µ—Б–Ї–Є
–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї —В–∞–Ї–Њ–є –∞—А–Њ–Љ–∞—В, —З—В–Њ —П –Њ—В–≤–µ—Б—В–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Њ—В –љ–µ—С –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Ь–∞–Љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М
—Б–≤–Њ–Є–Љ
—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ —П –Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є —Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ, –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –Њ—В
—В—А–µ—Б–Ї–Є.
–Ч–∞—В–µ–Љ, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤, —П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–∞–Љ–µ:
- –Ь–∞–Љ, –Ї—Г–њ–Є –Љ–љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —В—А–µ—Б–Ї–Є - –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П.
–Ь–∞–Љ–∞,
–Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞:
- –°—Л–љ–Њ–Ї, —П
—В–µ–±–µ
—В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–µ—Б–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, –љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Њ—В —Н—В–Њ–є —В—А–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–Њ—В—А–µ–ґ–µ–Љ,
—В–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ, —Е–Њ—В—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, - —Н—В–Њ
–љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ.
–Ю–љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ —А—Л–±–Є–љ—Г –Є –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї–∞ –Њ–і–Є–љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤
–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ. –ѓ —Б—К–µ–ї –µ–≥–Њ –≤ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ—М–µ –Њ–Ї–∞, –Ј–∞—В–µ–Љ —Б—В–∞–ї –Ї–∞–љ—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Љ–∞–Љ–∞ –µ—Й—С
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –Њ–љ–∞ –µ—Й—С –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ –Ї—Г—Б–Њ–Ї
–њ–Њ–Ї—А—Г–њ–љ–µ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–љ: –і–∞–ї—М—И–µ
–Њ—В—А–µ–Ј–∞—В—М –±—Г–і–µ—В —Г–ґ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ. –ѓ –≤ —Б–ї—С–Ј—Л. –Т–Ї—Г—Б —Б–≤–µ–ґ–µ–Ї–Њ–њ—З—С–љ–Њ–є —А—Л–±—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–љ–µ
—Б–ї–∞—Й–µ –Љ—С–і–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–є —А—Л–±–Є–љ—Л, —П —Г–ґ–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Э–∞ –Љ–Њ–Є —Г–≥–Њ–≤–Њ—А—Л
–Њ—В—А–µ–Ј–∞—В—М –Љ–љ–µ –µ—Й—С –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–∞–Љ–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–Њ–Љ —Ж–µ–ї—Л–є —З–∞—Б,
–љ–Њ,
–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–ґ–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М –Є –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –Ї—Г—Б–Њ–Ї, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В —А—Л–±–Є–љ—Л
–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–і–Є–љ —Е–≤–Њ—Б—В. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л —Б —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є –ґ–і–∞—В—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї—М—Ж–∞.
–Я–Њ—Б—В–Њ—П–ї–µ—Ж –њ—А–Є—И—С–ї, –Љ–∞—В—М —Г—Б–ї—Г–ґ–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г —З–∞–є.
–Я–Њ—Б—В–Њ—П–ї–µ—Ж
—А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї –≥–∞–Ј–µ—В—Г, —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –Њ—В –µ–≥–Њ —А—Л–±—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ
—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї
–љ–∞ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –љ–µ–і–Њ—Г–Љ—С–љ–љ–Њ. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ, –Љ–Њ–ї—З–∞, –і–Њ–µ–ї —А—Л–±—Г, –∞ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —Г—В—А–Њ
—Б—К–µ—Е–∞–ї —Б
–Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л...
–§—Г—В–±–Њ–ї
–Э—Г –Є –Ї–Њ–≥–і–∞
–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М
—Г—А–Њ–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Д—Г—В–±–Њ–ї - –і–≤–Њ—А –љ–∞ –і–≤–Њ—А?! –Ґ—Г—В —Г–ґ–µ –њ—Г–ї–µ–є
–≤—Л–ї–µ—В–∞–µ—И—М
–Є–Ј –і–Њ–Љ—Г, –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –і–Њ–ґ—С–≤—Л–≤–∞—П —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–∞—В—М —В–µ–±–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ —Б—Г–Љ–µ–ї–∞
–і–Њ—Б—В–∞—В—М. –°
–Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—И—М, —З—В–Њ —В—Л —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –±—Г–і–µ—И—М —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ,
–Є–±–Њ
–≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є —А–∞–Ј —В—Л –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е, –Є —В–µ–њ–µ—А—М —В–≤–Њ—П
–Њ—З–µ—А–µ–і—М
–±—Л—В—М —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –Э–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ —Е–Њ—В—П—В –±—Л—В—М –≤—Б–µ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В
–≤–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≤ —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г. –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–є –≥–≤–∞–ї—В, –±—Г–і—В–Њ –±—Л
–Є–≥—А–∞
—Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М. –Э–Њ –і–Њ –Є–≥—А—Л –±—Л–ї–Њ –µ—Й—С –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –Є
—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –≤ –љ–µ–є –Љ–µ—Б—В–∞. –†–µ—З—М –Є–і—С—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤
–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ, - –Љ–µ—Б—В–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–µ
—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П.
–Ш—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —А–∞–Ј–≤–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—А–∞—В–∞—А—П. –Т–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ
–≤—А–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤—Л–µ. –Ъ—В–Њ —Г–Љ–µ–ї –Ї—А–Є—З–∞—В—М —В–Є—И–µ –≤—Б–µ—Е, —В–Њ–Љ—Г –Є
–і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е.
–Ч–∞—В–µ–Љ –Є–≥—А–∞! –Ф–Њ –Њ–і—Г—А–µ–љ–Є—П! –Т—А–µ–Љ—П –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Њ. –Ш–≥—А–∞—О—В –і–Њ
—Г–њ–∞–і–∞. –°—З–µ—В –±—Л–≤–∞–µ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ: 18 –љ–∞ 24 –Є –±–Њ–ї–µ–µ! –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—Г–і—М–Є –љ–µ—В. –Ю—В–Ї—Г–і–∞
–≤–Ј—П—В—М? –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —Е–Њ—З–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–≥—А–∞—В—М, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–љ—Л–є –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї
—Б—В–∞–≤–Є—В
–њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Ї–Є, –ї–µ—В–Є—В –љ–∞ —В–µ–±—П, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤–њ–µ—А—С–і –ї–Њ–Ї—В–Є, –±—М—С—В –њ–Њ –љ–Њ–≥–∞–Љ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ,
—З—В–Њ –Є–≥—А–∞–ї–Є –љ–µ –≤ –±—Г—В—Б–∞—Е, –∞ –Ї—В–Њ –≤ —З—С–Љ. –І–∞—Й–µ
–≤—Б–µ–≥–Њ
–±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ, –≤–µ–і—М –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є —В—Л —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є–ї, –Є –Њ—В–µ—Ж —В–µ–±–µ –Ј–∞ —Н—В–Њ –љ–∞–і—А–∞–ї —Г—И–Є,
–µ—Б–ї–Є,
–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–љ —Г —В–µ–±—П –±—Л–ї. –І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –±–µ–≥–∞–ї–∞ –±–µ–Ј–Њ—В—Ж–Њ–≤—Й–Є–љ–∞. –Ш –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї
–Њ—В–µ—Ж
–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–Њ–≤—Л–µ –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є —В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –љ–µ —Г—В–Њ—З–љ—П—П,
—З—М–µ–є.
–Ь—Л –±—Л–ї–Є —Б—В—А–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Д—Г—В–±–Њ–ї–∞, –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –і–≤–Њ—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –≤ –Ї—Г—А—Б–µ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –Љ–∞—В—З–µ–є –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞
—Б—В—А–∞–љ—Л –Є –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤, –Ј–љ–∞–ї–Є –≤—Б–µ—Е –Є–≥—А–Њ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Є–Љ—С–љ–љ–Њ, –Є –Ї—В–Њ –≥–і–µ –Є–≥—А–∞–ї. –Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е
–Є–≥—А–Њ–Ї–∞—Е —Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ –С–Њ–±—А–Њ–≤–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є
–љ–Њ–≥–µ
–±—Л–ї–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –ї–µ–љ—В–Њ—З–Ї–∞, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–∞—П, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Г–і–∞—А –њ–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ –±—Л–ї —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ
–і–ї—П –≤—А–∞—В–∞—А–µ–є. –Э–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М "–Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л", —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Є –≤–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї
–С–Њ–±—А–Њ–≤
—Г–і–∞—А–Њ–Љ –Љ—П—З–∞ –ї–Њ–Љ–∞–ї —И—В–∞–љ–≥—Г –љ–∞–њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ.
–Ш–≥—А–∞–ї–Є —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –±–∞—А–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Ю–Ї–љ–∞ –±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤
–±—Л–ї–Є
–Ј–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–≥–Њ –Љ—П—З–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г
–ґ–µ
—З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤ –Ї–Є—А–Ј–Њ–≤—Л–є –Љ—П—З, –ї–∞—В–∞–љ–љ—Л–є-–њ–µ—А–µ–ї–∞—В–∞–љ–љ—Л–є, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ
–њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –љ–µ –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –∞ –њ–Њ —Б—В—С–Ї–ї–∞–Љ –±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤. –Ґ—Г—В –ґ–µ –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М
–≥–Њ–ї–Њ–≤–∞
–Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ —А—Г–≥–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–∞—Б –љ–µ –≤ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ—Л—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е. –Ъ–Њ–ґ–∞–љ—Л–є –Љ—П—З –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥, - —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ
–љ–µ
–њ–Њ-–Ї–∞—А–Љ–∞–љ—Г. –Ф–∞ –Є –Ї–Є—А–Ј–Њ–≤—Л–є-—В–Њ —Г–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –Ї—Г–њ–Є—В—М –±—Л–≤–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –Э–Є—Й–µ—В–∞.
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –љ–∞—И –і–≤–Њ—А —А–µ–±—П—В–∞ —Б –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–Ї–Є, —З—В–Њ —Г
–Т–Њ–љ—П–ї–Њ–≤–Ї–Є. –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ—Л –Ј–∞–і—А–∞—В—М –љ–∞—Б. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є–Љ —Н—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –£ –љ–Є—Е
–≤—Б–µ
–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ—Л–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—П–Ї–Є. –Ю–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ґ–Њ—И–∞ —З–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є—В: –Љ–µ—В—А –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В–Њ.
–Ґ–Њ–ї—П
–Ю–±—Г—Е–Њ–≤ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Б—В–∞–љ–µ—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Є —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞ –Є –Ї–Є–љ–Њ. –Ю–љ —Б–љ–Є–Љ–µ—В—Б—П –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е
—Д–Є–ї—М–Љ–∞—Е, –∞
–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞
–Є–Ј –≥–∞–є–і–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–є
–Ї–Є–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є
"–ѓ –У—А–Є—И–∞!", –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б—В–µ–љ—Г
–≤–µ—А–∞–љ–і—Л, —Б—В–∞–ї–∞ –ї–µ—В—Г—З–µ–є.
–Р —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ - –≥–Њ–ї–Њ–і—А–∞–љ—М. –Ь–∞–є–Ї–∞ –≤ –і—Л—А–∞—Е,
—И–∞—А–Њ–≤–∞—А—Л
–≤ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–∞—Е, –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е –Њ–±–ї–µ–Ј–ї—Л–µ –±–∞—И–Љ–∞–Ї–Є. –Э–Њ –≥–Њ–љ–Њ—А—Г-—В–Њ, –≥–Њ–љ–Њ—А—Г —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ! –С—Г–і—В–Њ
–±—Л –Њ–љ —Г–ґ–µ –∞—А—В–Є—Б—В —Б–µ–є—З–∞—Б, –∞ –љ–µ —З–µ—А–µ–Ј
–Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П.
–Т–Њ—В –Ґ–Њ—И–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –Ї—А–∞—О. –Ъ—В–Њ –µ–≥–Њ —Г–і–µ—А–ґ–Є—В?
–Ъ—Г–≥–Є–љ, —З—В–Њ –ї–Є? –≠—В–Њ—В —Е–ї—О–њ–Є–Ї? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –µ–≥–Њ —Н—В–Њ—В –≤–µ—А–Ј–Є–ї–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Њ–Љ–љ—С—В. –Э–Њ
–Ъ—Г–≥–Є–љ,
–Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —З—Г–і–Њ–Љ, –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–µ—В –Ґ–Њ—И—Г –Ї –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–љ–Є–Ї—Г. –Ґ–Њ—И–∞ —А–µ—И–∞–µ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Є—В—М –њ–Њ
–≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –І—В–Њ –µ–Љ—Г –Ъ—Г–≥–Є–љ, –њ–Њ–Љ–µ—Е–∞ —З—В–Њ –ї–Є? –Э–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Е–Њ–є
—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —И—В–∞–Ї–µ—В–љ–Є–Ї –њ–∞–ї–Є—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞. –Э–Њ–≥–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Љ—П—З–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–Є
—И—В–∞–Ї–µ—В–љ–Є–Ї–∞.
–Ф–Њ—Б–Ї–Є –≤—Л–ї–µ—В–∞—О—В –Є–Ј —И—В–∞–Ї–µ—В–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–Љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –∞ –±–Њ—В–Є–љ–Њ–Ї –Ґ–Њ—И–Є–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї "–Љ—П—Г".
–Ґ–Њ—И–∞ –≤–Њ–ї—З–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Ї—А—Г—В–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –≤–Њ—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г,
–њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ, —В.–µ. –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—В—М –і—А–∞–Љ—Г —Г–ґ–µ
–љ–µ
—Г–і–∞—Б—В—Б—П. –Ф–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ –љ–Њ–≥—Г, –Ґ–Њ—И–∞ –Ј–∞—Е—А–Њ–Љ–∞–ї –Ї –њ–Є—Б—Б—Г–∞—А–∞–Љ, —Е–Њ—В—П –µ—Б–ї–Є —З–µ—Б—В–љ–Њ, —В–Њ
–≥–і–µ –≤
—В–Њ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Є –њ–Є—Б—Б—Г–∞—А—Л? –Х—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–µ—А–µ–≤–Њ–Љ. –Э–Њ –µ–≥–Њ
–љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В, –Є –Љ—П—З–Њ–Љ —Г–ґ–µ
–Ј–∞–≤–ї–∞–і–µ–ї
–Ъ—Г–≥–Є–љ. –Я–∞—Б, –і—А—Г–≥–Њ–є –њ–∞—Б, –Є —Г–ґ–µ –Љ—П—З –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ—Л –≤—Б—С
—А–∞–≤–љ–Њ
–њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї–Є, –љ–Њ —Б –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ —Б—З—С—В–Њ–Љ. –Ч–∞—В–Њ –Ґ–Њ—И–∞ –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В–і—Л—Е–∞–µ—В. –Р
–±–µ–Ј
–љ–µ–≥–Њ –Љ—Л –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Њ—В—Л–≥—А–∞–µ–Љ—Б—П.
- –ѓ –У—А–Є—И–∞!
–Ъ–∞–і—А –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є
–У–∞–є–і–∞—П "–°–µ–Љ—М —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Њ–і–љ–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞".
–Т –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Б—В–∞–ї –њ–Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є, —П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г
–Ґ–Њ–ї–Є:
- –Ъ–∞–Ї–Њ–µ –Є–Ј –Љ–Њ–Є—Е
—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є —В–µ–±–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П?
- –®–∞—А–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї, -
–Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ–љ.
- –Ґ–Њ–≥–і–∞ —В–µ–±–µ
–µ–≥–Њ —П
–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞—О, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П.
–®–∞—А–Љ–∞–љ—Й–Є–Ї
–њ–Њ—Б–≤. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О
–Ю–±—Г—Е–Њ–≤—Г.
–•–Њ—В—М
–љ–Є—Й –Є –±–Њ—Б, –љ–Њ –≤–µ—Б–µ–ї —П.
–Ш—Й—Г
–њ–Њ —Б–≤–µ—В—Г —Б—З–∞—Б—В—М–µ.
–Ы—О–і–µ–є
–њ–Њ —Б—С–ї–∞–Љ –≤–µ—Б–µ–ї—П
–Ш –≤
–≤—С–і—А–Њ, –Є –≤ –љ–µ–љ–∞—Б—В—М–µ.
–Ь–љ–µ —Е–ї–µ–± –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ
–њ–Њ–і–∞—О—В
–Ч–∞
–њ–µ—Б–љ–Є –њ–Њ–і —И–∞—А–Љ–∞–љ–Ї—Г.
–°—В–∞–Ї–∞–љ
–≤–Є–љ–∞, —В–µ–њ–ї–∞ –њ—А–Є—О—В,
–Ш
–Љ–µ–і—М –≤ –Љ–Њ—О –ґ–µ—Б—В—П–љ–Ї—Г.
 –Ш –њ—Г—Б—В—М –љ–∞–њ–µ–≤ –Љ–Њ–є –љ–µ
–Љ—Г–і—А—С–љ,
–Ш –њ—Г—Б—В—М –љ–∞–њ–µ–≤ –Љ–Њ–є –љ–µ
–Љ—Г–і—А—С–љ,
–Э–Њ
—В–Њ—В, –Ї—В–Њ –Њ–±–µ–Ј–і–Њ–ї–µ–љ,
–Э–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є
–±—Г–і–µ—В –Њ–±–Њ–і—А—С–љ
–Ш
–≤–µ—А–Њ–є, –µ—Б–ї–Є –±–Њ–ї–µ–љ.
–Т
–Њ–Ј—С—А–∞—Е —А—Л–±—Г —П –љ–∞–є–і—Г,
–Т
–ї–µ—Б—Г –≥—А–Є–±–Њ–≤ –Є —П–≥–Њ–і.
–Ъ—Г–і–∞
—Е–Њ—З—Г, —В—Г–і–∞ –Є–і—Г,
–Ш
–ґ–Є–Ј–љ—М –Љ–Њ—П –±–µ–Ј —В—П–≥–Њ—В.
–°–Њ
–Љ–љ–Њ—О —А—П–і–Њ–Љ –і—А—Г–≥ –Є–і—С—В,
–°
–љ–Є–Љ –і–љ–Є –ї–µ—В—П—В –±—Л—Б—В—А–µ–µ.
–Ш
–µ—Б–ї–Є –≥–Њ—А–µ –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є–і—С—В,
–Х–≥–Њ
–Љ—Л –Њ–і–Њ–ї–µ–µ–Љ.
–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ю–±—Г—Е–Њ–≤.
–Т–Њ
–≤—Б—С–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ—Л –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ,
–Э–µ—В
–њ—А–µ–і–∞–љ–љ–µ–µ –і—А—Г–≥–∞.
–Х–≥–Њ
–ї—О–±–Њ–≤—М –≤ –њ—Г—В–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ,
–Я–Њ–≤–µ—А—М—В–µ,
–љ–µ —Г—Б–ї—Г–≥–∞.
–Я—Г—Б—В—М
–Њ–љ –ї–Њ—Е–Љ–∞—В, –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –њ—С—Б, -
–Ю–љ
–Љ–љ–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ –Ј–ї–∞—В–∞.
–Ш
—З—В–Њ–±—Л –і–µ–љ—М –Љ–љ–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ—С—Б,
–Я—С—Б –Љ–љ–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ
–±—А–∞—В–∞.
–•–Њ—В—М
–љ–Є—Й –Є –±–Њ—Б, –љ–Њ –≤–µ—Б–µ–ї —П, -
–Э–∞—И—С–ї
—Б–≤–Њ—С –≤–µ–і—М —Б—З–∞—Б—В—М–µ.
–Ы—О–і–µ–є
–њ–Њ —Б—С–ї–∞–Љ –≤–µ—Б–µ–ї—П
–Ш –≤
–≤—С–і—А–Њ, –Є –≤ –љ–µ–љ–∞—Б—В—М–µ.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Љ—Л
—Б –Ґ–Њ–ї–µ–є –Ю–±—Г—Е–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ
–њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–µ. –ѓ –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ, –∞ –Њ–љ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ. –Ь—Л —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М —Г
–Љ–µ–љ—П,
–Є–ї–Є —Г –љ–µ–≥–Њ. –Ю–љ —В–Њ–≥–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —В–µ–∞—В—А–µ –У–Њ–≥–Њ–ї—П, –∞ —П –≤ –Э–Ш–Ш –Я—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–є –§–Є–Ј–Є–Ї–Є.
–Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У—Г–±–µ–љ–Ї–Њ, –Є–Ј —В–µ–∞—В—А–∞
–љ–∞
–Ґ–∞–≥–∞–љ–Ї–µ, –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –Ґ–Њ–ї—О –њ–Њ-—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ —В–µ–∞—В—А–µ.
–°—В–∞–≤–Є–ї
—В–Њ–≥–і–∞ –У—Г–±–µ–љ–Ї–Њ "–Т–Є—И–љ—С–≤—Л–є —Б–∞–і" –І–µ—Е–Њ–≤–∞. –Ґ–Њ–ї—П —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–Є–ї—Б—П. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤
–Њ–љ, –њ–µ—А–µ–љ–∞–њ—А—П–≥–∞—П—Б—М –≤ –і–≤—Г—Е —В–µ–∞—В—А–∞—Е, —В—П–љ—Г–ї —Н—В—Г —В—П–ґ—С–ї—Г—О –ї—П–Љ–Ї—Г, —З–∞—Б—В–Њ –Љ–љ–µ
–ґ–∞–ї—Г—П—Б—М:
-
–°–ї–∞–≤–Є–Ї, —В—А—Г–і–љ–Њ: –£—В—А–Њ–Љ –≤ "–У–Њ–≥–Њ–ї–µ" —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—П, –і–љ—С–Љ –љ–∞ "–Ґ–∞–≥–∞–љ–Ї–µ",
–≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ
—Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ "–У–Њ–≥–Њ–ї–µ", –љ–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М. –£—Б—В–∞—О, –љ–µ—В —Б–Є–ї. –° –њ–∞–Љ—П—В—М—О —Б—В–∞–ї–Њ
–њ–ї–Њ—Е–Њ–≤–∞—В–Њ.
–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—В–Њ—З–љ–Њ —Б–Ї–∞–ґ—Г –љ–∞ —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є –≤ "–Ґ–∞–≥–∞–љ–Ї–µ" —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ, —В–∞–Ї
–У—Г–±–µ–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—Г –љ–µ –і–∞—С—В: "–Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ—В—Б–µ–±—П—В–Є–љ—Л, - —Н—В–Њ –ґ–µ –І–µ—Е–Њ–≤".
–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г –Ґ–Њ–ї–Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Њ–ї–Є–і–љ–∞—П
–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Ж–Є—П –≤ 150
–Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і—Л—И–Ї–∞, –Њ–љ —З–∞—Б—В–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞
—Б–µ—А–і—Ж–µ, –љ–Њ —В–µ—А–њ–µ–ї, –≤–µ–і—М —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞ "–Ґ–∞–≥–∞–љ–Ї–µ" –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–љ–∞ –Є
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞.
–Ш –≤–Њ—В, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —В—П–ґ—С–ї–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–љ—П, –Ґ–Њ–ї—П –Ю–±—Г—Е–Њ–≤ —Г–њ–∞–ї
–≤
–Љ–µ—В—А–Њ –Њ—В —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–∞ –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П. –Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ
–±–Њ–ї—М—И—Г—О
—Г—В—А–∞—В—Г, –Њ —З—С–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–∞ —В—А–∞—Г—А–љ–Њ–є –њ–∞–љ–Є—Е–Є–і–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є
–У—Г–±–µ–љ–Ї–Њ.
–Ъ–Є–љ–Њ–Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞
–Њ—Й—Г—В–Є–Љ—Г—О —Г—В—А–∞—В—Г, –Є–±–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ю–±—Г—Е–Њ–≤ —Б–љ—П–ї—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –≤ 20-—В–Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞—Е.
–Ъ–∞–і—А –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є
–У–∞–є–і–∞—П
"–Э–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М".
–ѓ –њ–Њ–љ—С—Б –ї–Є—З–љ—Г—О —Г—В—А–∞—В—Г, –≤–µ–і—М –Ґ–Њ–ї—П –±—Л–ї
–Љ–љ–µ
–і—А—Г–≥–Њ–Љ –µ—Й—С —Б –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–Є. –Я–Њ–і –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —П –≤—Б–Ї–Њ—А–µ
–љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤–Њ—С —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ:
–°–Є–Ј–Њ–є –і—Л–Љ–Ї–Њ–є
–ѓ –њ—А–Њ–њ–∞–ї, –љ–µ
—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О,
–Я–Њ–≥—А—Г–ґ—С–љ –≤
–љ–µ–±—Л—В–Є–µ.
–°–Є–Ј–Њ–є –і—Л–Љ–Ї–Њ–є –≤ –љ–Њ—З—М
–≥–ї—Г—Е—Г—О
–†–∞—Б—В–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П –≤
—В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ.
–Э–Њ, –ї—О–±–Є–Љ–∞—П,
—А–Њ–і–љ–∞—П,
–Ґ—Л –љ–µ –≤–µ—А—М, —З—В–Њ —Б–≥–Є–љ—Г–ї
—П,
–•–Њ—В—М —Б—Г–і—М–±–Є–љ–∞
—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П
–Ґ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—П.
–ѓ –≤–µ—А–љ—Г—Б—М, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≥—А–Њ–Ј—Л,
 –Ю—В–≥—А–µ–Љ–µ–≤, —Б–Њ–є–і—Г—В
–≤–µ—Б–љ–Њ–є,
–Ю—В–≥—А–µ–Љ–µ–≤, —Б–Њ–є–і—Г—В
–≤–µ—Б–љ–Њ–є,
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞–ї–Њ–є –ї–µ–љ—В–Њ–є
—А–Њ–Ј—Л
–Ю–њ–Њ—П—И—Г—В –Љ–Є—А –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є.
–Ш –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —Б—П–і–µ—В
—Б–Њ–ї–љ—Ж–µ,
–®–∞–ї—Л–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ
–њ–Њ—Б—В—Г—З—Г—Б—М.
–Ю—В–≤–Њ—А–Є —Б–≤–Њ—С
–Њ–Ї–Њ–љ—Ж–µ,
–°–Є–Ј–Њ–є –і—Л–Љ–Ї–Њ–є —П
–≤–µ—А–љ—Г—Б—М.
–ѓ –≤–ї–µ—З—Г –Ї —В–µ–±–µ
–љ–µ–Ј—А–Є–Љ–Њ,
–°—В—А—Г–љ–Ї–Њ–є —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–Є
–њ—А–Њ–њ–Њ—О.
–С–Њ–ї—М –Њ–±—К–µ–Љ–ї–µ—В
–љ–µ—Б—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ
–Ф—Г—И—Г —Е–ї–∞–і–љ—Г—О –Љ–Њ—О.
–Э–∞ –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–Љ —Б—П–і—М –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–µ, –Ы–Є–і–∞
–®–Њ—Е–Є–љ–∞.
–°–≤–µ—З–Ї—Г —Б—В–∞–≤—М –Є –љ–µ
—Б–њ–µ—И–Є.
–Т–Њ–Ј–≥–Њ—А–µ—В—М –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В
—Б–≤–µ—З–Ї–µ
–Я—Л–ї–Ї–Є–є –ґ–∞—А –Љ–Њ–µ–є
–і—Г—И–Є.
–Ш–Ј–≤–Є–љ–Є, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В
–≤–µ—З–µ—А
–Э–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г —В–µ–±—П
–Њ–±–љ—П—В—М.
–ѓ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б –і—Л–Љ–Ї–Њ–є
–≤–µ—В–µ—А,
–£ –Љ–µ–љ—П –Є–љ–∞—П
—Б—В–∞—В—М.
–Ш –њ—А–Њ—И—Г, –љ–µ –њ–ї–∞—З—М
–љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ.
–° –Љ–Њ–µ–є —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–Є —Б–і—Г–є –ї–Є—И—М
–њ—Л–ї—М.
–ѓ –ї—О–±–Є–ї –≤–∞—Б –і–≤—Г—Е
–≤—Б–µ—З–∞—Б–љ–Њ,
–Ф–∞ –њ–Њ–њ—А–∞–≤—М —Б–≤–µ—З–Є
—Д–Є—В–Є–ї—М.
–њ–Њ—Б–≤. –Ы–Є–і–Є–Є
–®–Њ—Е–Є–љ–Њ–є.
–Э–Є —П, –љ–Є –Љ–Њ–є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є
–Ґ–Њ–ї—П –Ю–±—Г—Е–Њ–≤, —В–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є
–љ–µ
–±—Л–ї–Є –ґ–µ–љ–∞—В—Л, —Е–Њ—В—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ
–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –ї—О–±–∞—П –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –љ–∞–Љ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –љ–Њ
—Н—В–Є–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Љ—Л –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Ъ—Г—В–µ–ґ–Є –Є –≥—Г–ї—П–љ–Ї–Є –≤
–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –і–∞–Љ, - –≤—Б—С —Н—В–Њ –љ–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –ї—Г—З—И–Є–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–є
–ґ–Є–Ј–љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–≥—Г–ї–Њ–≤ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –±–Њ–ї–Є, –і–∞
—Б–Є–љ—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Н—В—Г –љ–µ–њ—Г—В—С–≤—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –±–µ–Ј
—Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ—В–µ—А—П–≤ –Ґ–Њ–ї—О, —П
–±–Њ–ї—М—И–µ
—Б—В–∞–ї —Г–і–µ–ї—П—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є. –Э–∞—И —Б –љ–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, - —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—П—Ж–Ї–Є–є, - –Є–Љ–µ–ї
–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ, –≤ –≤–Є–і–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, –љ–Њ –Є –Є–Љ–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ—Г—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
–љ–∞–≤–Њ–і—П—В
–љ–µ –љ–∞ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є.
–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ю–±—Г—Е–Њ–≤ –Є –∞–≤—В–Њ—А
—Б
–і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є.
–Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є,
—Г
–Љ–µ–љ—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ,
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є:
–Ф–Њ–Љ–Њ–≤—С–љ–Њ–Ї
–Я–Њ–Љ–µ—Б—В—М—П –Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј—А–Є–Љ—Л–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М,
–Ґ–µ–±—П –Љ–Њ–ї—О, –Љ–Њ–є
–і–Њ–±—А—Л–є –і–Њ–Љ–Њ–≤–Њ–є.
–Р.–°. –Я—Г—И–Ї–Є–љ.
–њ–Њ—Б–≤. –Т–µ—А–µ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–µ
–У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є.
–Э–∞–Љ–∞—П–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –і–µ–ї –Є
—Б—Г–µ—В—Л,
–Ф–Њ–Љ–Њ–є —П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Б—М, —Б –љ–Њ–≥
–≤–∞–ї—П—Б—М.
–Ъ–Њ—Д–µ–є–љ–Є–Ї —Б—В–∞–≤–ї—О, –≥—А–µ—П—Б—М —Г
–њ–ї–Є—В—Л,
–Ш –њ—А–Њ—З—М –≥–Њ–љ—О —В—П–ґ—С–ї—Л—Е
–Љ—Л—Б–ї–µ–є
–≤—П–Ј—М.
 –Я–Њ —Б—В–µ–љ–∞–Љ –њ–ї—П—И—Г—В —В–µ–љ–Є –Њ—В —Б–≤–µ—З–Є,
–Я–Њ —Б—В–µ–љ–∞–Љ –њ–ї—П—И—Г—В —В–µ–љ–Є –Њ—В —Б–≤–µ—З–Є,
–Т —З—Г–ї–∞–љ–µ –≤–і—А—Г–≥ —А–∞–Ј–і–∞—Б—В—Б—П —З–µ–є-—В–Њ
—Б—В–Њ–љ.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞ –њ–µ—З–Ї–Њ–є —Б–ї—Л—И—Г —П –≤
–љ–Њ—З–Є,
–°–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—А—С–Љ—Г: —И–Њ—А–Њ—Е, —И—С–њ–Њ—В, —В–Є—Е–Є–є
–Ј–≤–Њ–љ.
–Ь–Њ–є
–Љ–Є–ї—Л–є
–і–Њ–Љ–Њ–≤—С–љ–Њ–Ї, –љ–µ —И—Г–Љ–Є.
–І—В–Њ
—Е–Њ—З–µ—И—М, —Г –Љ–µ–љ—П —Б–µ–±–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є.
–Ґ—А–µ–≤–Њ–ґ–Є—В
–Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М—З–Є–Ї —В–≤–Њ–є –Љ–љ–µ —Б–Њ–љ,
–Э–Њ —В—Л
–Ј–≤–Њ–љ–Є—И—М –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ, –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ, –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ.
–ѓ —В–∞–Ї —Г—Б—В–∞–ї, –≤ –Ј–∞–±–Њ—В–∞—Е –і–µ–љ—М-–і–µ–љ—М—Б–Ї–Њ–є. –Т–µ—А–∞
–Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–∞
–Ф–∞–є –Љ–љ–µ –Ј–∞–±—Л—В—М—Б—П, –і—Г—И—Г —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є. –У–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞
–Ч–∞—З–µ–Љ –Ј–∞–ї–µ–Ј,
—В–∞—П—Б—М, –≤ –њ—Г—Б—В–Њ–є
–±–Є–і–Њ–љ?
–Т –Њ—В–≤–µ—В –ї–Є—И—М –Ј–≤–Њ–љ –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ, –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ,
–і–Є–љ—М-–і–Њ–љ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї—О–і–µ–љ –±—Л–ї –Љ–Њ–є –і–Њ–Љ.
–Ь–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ—М—П —В–∞–Ї —Б–≤–µ–ґ–Є.
–С–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —В–µ–Ї–ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М —З–µ—А–µ–і–Њ–Љ:
–С–∞–ї—Л, –њ—А–Є—С–Љ—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–Є, –Ї—Г—В–µ–ґ–Є.
–Ш –≤–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–Њ–є –і–Њ–Љ –њ—Г—Б—В–Њ–є -
–Э–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –љ–Є —Б–Љ–µ—Е–∞ –љ–µ —Б–ї—Л—Е–∞—В—М.
–Ю—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –Љ–µ—З—В–∞ –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–Њ–є,
–Ф–∞ –±–Њ–ї—М –≤ –≥—А—Г–і–Є –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В —Г—В–Є—Е–∞—В—М.
–Ь–Њ–є –Љ–Є–ї—Л–є –і–Њ–Љ–Њ–≤—С–љ–Њ–Ї, –Њ—В –±–µ–і—Л
–Ґ—Л –і–Њ–Љ —Е—А–∞–љ–Є—И—М, —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ —В—А—Г–і—Л.
–Э–∞–≤–Њ–і–Є—В –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М—З–Є–Ї —В–≤–Њ–є –Љ–љ–µ —Б–Њ–љ.
–Э—Г —З—В–Њ –ґ, –Ј–≤–Њ–љ–Є –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ, –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ,
–і–Є–љ—М-–і–Њ–љ.
–ѓ –љ—Л–љ—З–µ, —В–∞–Ї —Г–ґ –≤—Л—И–ї–Њ, –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї.
–Ш —П –ї—О–±–ї—О —В–µ–±—П –Є —В–≤–Њ–є –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Ї.
–Ю—В–Ї—А–Њ–є—Б—П, –і—А—Г–≥, –њ–Њ–Ї–Є–љ—М —В—Л —Б–≤–Њ–є –±–Є–і–Њ–љ.
–Т –Њ—В–≤–µ—В –ї–Є—И—М –Ј–≤–Њ–љ –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ, –і–Є–љ—М-–і–Њ–љ,
–і–Є–љ—М-–і–Њ–љ.
–°—В–∞–і–Є–Њ–љ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А"
–†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А". –Э–∞ –љ—С–Љ
–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М
–њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ —Д—Г—В–±–Њ–ї—Г, –≥–і–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П
–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А".
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј—А–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Љ—Л, –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є —Н—В–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–Є, -
–њ—А–Є—З—С–Љ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Л–µ. –Т—Е–Њ–і –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–∞—В—З–µ–є –±—Л–ї –њ–ї–∞—В–љ—Л–Љ. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ,
-
—Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–Є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ —Н—В–Є—Е –і–µ–љ–µ–≥ —Г –љ–∞—Б –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—В—З
–љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П, –Љ—Л –і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ –њ–Њ–і –Ј–∞–±–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–∞, –Є –Љ—Л –љ–∞ –Љ–∞—В—З–µ. –Ч–∞
–њ–Њ–і–Ї–Њ–њ–∞–Љ–Є
—Б–ї–µ–і–Є–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є —Г—Б–ї–µ–і–Є—И—М? –°—В–Њ–Є–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –Њ–і–Є–љ
–њ–Њ–і–Ї–Њ–њ –Є –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М –Ј–∞ —И–Є–≤–Њ—А–Њ—В —В–µ–±—П, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є —Б–Њ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–∞, –Ї–∞–Ї —В—Г—В –ґ–µ
–і–µ–ї–∞–ї—Б—П
–і—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–і–Ї–Њ–њ —В–≤–Њ–Є–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є, –Є —В—Л —Г–ґ–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–Њ–Є—И—М –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, —З—В–Њ–±—Л
–њ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ј—В–Є
–љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –њ–Њ–і –Ј–∞–±–Њ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Д—Г—В–±–Њ–ї.
–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–∞—В—З–∞ –±–Њ–ї–µ–ї–Є –∞–Ј–∞—А—В–љ–Њ, —И—Г–Љ–љ–Њ, —Б —Г–ї—О–ї—О–Ї–∞–љ—М—П–Љ–Є –Є
–Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є:
- –Т–њ–µ—А—С–і! –Ю–±–≤–Њ–і–Є —Б–ї–µ–≤–∞! –Ю—В–і–∞–є –њ–∞—Б
–љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ! –Ъ—Г–і–∞ –±—М—С—И—М? –Т–Њ—А–Њ—В–∞ –љ–µ —В–∞–Љ! –Ь–∞–Ј–Є–ї–∞! –°—Г–і—М—О –љ–∞ –Љ—Л–ї–Њ!
–Ш —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –У—Г–ї –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–µ —Б—В–∞—П–ї
—В–∞–Ї–Њ–є, —З—В–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –≤—Б—О –Њ–Ї—А—Г–≥—Г, —Е–Њ—В—П –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ.
–Т –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е –љ–∞—И–µ–≥–Њ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞" —Б—В–Њ—П–ї –Ґ—Г—А–∞–є. –Ч–∞–±–Є—В—М –µ–Љ—Г
–Љ—П—З
–±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ. –Т—Б–µ –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –µ–≥–Њ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М, –≤–µ–і—М –Њ–љ
–±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ "—А—Л–±–Ї–Њ–є" –±—А–Њ—Б–∞–ї—Б—П –≤ –љ–Њ–≥–Є –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е, –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ—П—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–є
–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Т —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Д—Г—В–±–Њ–ї–µ –≤—Б–µ –≤—А–∞—В–∞—А–Є –±—А–Њ—Б–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ
–љ–Њ–≥–∞–Љ–Є
–≤–њ–µ—А—С–і, —З—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ –і–ї—П –≤—А–∞—В–∞—А—П.
–≠—В–Њ –±—Л–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –≤—А–∞—В–∞—А—М, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–∞.
–Ъ–∞–Ї
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–Љ—Г –Ј–∞–±–Є–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ–ї, —В–Њ —Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ґ—Г—А–∞—П –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ
–≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ,
–Є –і–∞–ї–µ–µ –µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –Љ—П—З–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –ї–µ–љ—М, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–Њ –і–Њ
–њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ–њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–µ–Љ.
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ –Ї –љ–∞–Љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є "–°–њ–∞—А—В–∞–Ї"
–љ–∞
—А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И –Ї—Г–±–Ї–∞ –°–°–°–†. –Э–∞—И–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П —В—А–Є–±—Г–љ–∞ –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і–Њ–≤
—З—Г—В—М
–љ–µ –ї–Њ–њ–љ—Г–ї–∞ –Њ—В –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є. –Х—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–Є–і–µ–ї–Њ –љ–∞ —В—А–∞–≤–Ї–µ –Ј–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є –Є
–љ–∞
–≥–∞—А–µ–≤—Л—Е –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–∞—Е. –ѓ–±–ї–Њ–Ї—Г —Г–њ–∞—Б—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≥–і–µ. –Р–ґ–Є–Њ—В–∞–ґ –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, —З—В–Њ
–≤–µ—Б—М
–Љ–∞—В—З –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ–і –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є —А—С–≤ —В—А–Є–±—Г–љ. –Х—Й—С –±—Л, - –≤–µ–і—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ –Ј–∞—Е—Г–і–∞–ї–Њ–Љ
—Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–µ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Ј–≤—С–Ј–і—Л,
–Ї–∞–Ї –°–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –°–Є–Љ–Њ–љ—П–љ, –Э–µ—В—В–Њ.
–Я–µ—А–≤—Л–є —В–∞–є–Љ –њ—А–Њ—И—С–ї, –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –≤ –њ–Њ—З—В–Є —А–∞–≤–љ–Њ–є
–±–Њ—А—М–±–µ. "–°–њ–∞—А—В–∞–Ї—Г"
–љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Б—В–Њ–њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ—Г—О –≥–Њ–ї–µ–≤—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –Є–±–Њ –Ґ—Г—А–∞–є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ
—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є –≤—Б—С –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –љ–∞—И–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є
–њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —З—Г–і–µ—Б–∞ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞, –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—С–љ–љ—Л–µ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ–Є —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.
–≠—В–Њ
–≤—Б–µ—Е –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Њ, –Є–±–Њ –љ–∞—И–Є –Є–≥—А–Њ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В—П–≥–∞–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М
—В–Њ–Ї–∞—А—П–Љ–Є, —Д—А–µ–Ј–µ—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ, –Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –ї—О–±–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –∞ –љ–µ
–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–∞–Љ–Є.
–Э–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –Ї—А–∞—О –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є–≥—А–∞–ї –Љ–Њ–є —Б–Њ—Б–µ–і –њ–Њ
–і–Њ–Љ—Г,
—Б—В–Њ–ї—П—А –њ–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –С–Њ—А–Є—Б –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤. –Ю–љ –±—Л–ї –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ –Љ–µ–љ—П. –Х–≥–Њ –≤—Б–µ
–Ј–≤–∞–ї–Є: "–≠–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–∞", –Є–±–Њ –Њ–љ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –Љ—П—З –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ
–њ–Њ–ї—П,
—А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї —В–∞–Ї—Г—О —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Х–≥–Њ —З–∞—Й–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–∞–є–Љ–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї
—Б–Є–ї
—Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ —В–∞–Ї–Є–µ —А—Л–≤–Ї–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П
–Љ—П—З–Њ–Љ —Г –С–Њ—А–Є—Б–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≤—Б—С –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –І–∞—Б—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–њ—Г—В—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ
–Љ—П—З–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–≥–∞—Е, –Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Э–Њ, –µ–≥–Њ
–±—А–Њ—Б–Ї–Є
–≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П–ї–Є, - –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А, –љ—Г –Ї–∞–Ї —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—П—З –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї
–Ї
–љ–µ–Љ—Г, –Њ–љ –Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г –Ї—А–∞—О –Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Г–≥–ї—Г —И—В—А–∞—Д–љ–Њ–є
–њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є
–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ґ—А–Є–±—Г–љ—Л –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є:
-
–≠-–ї–µ-–Ї—В—А–Є—З-–Ї–∞! –≠-–ї–µ-–Ї—В—А–Є—З-–Ї–∞! –≠-–ї–µ-–Ї—В—А–Є—З-–Ї–∞!
–С–Њ—А–Є—Б –°–Є–і–Њ—А–Њ–≤-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–∞.
–Э–Њ –≤–Њ—В –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є —В–∞–є–Љ. –Ъ—Г–±–Ї–Њ–≤—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–∞—В—З–∞
–Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї
"–°–њ–∞—А—В–∞–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤" –љ–∞–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞". –Э–∞—И–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞
–±–Є–ї–Є –њ–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ —Б–њ–∞—А—В–∞–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞, –±–µ–Ј —И–∞–љ—Б–Њ–≤ –Ј–∞–±–Є—В—М. –Ч–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є
"–°–њ–∞—А—В–∞–Ї–∞"
–±—Л–ї–Є –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ. –Т–Њ—В –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–∞ –њ–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ, –љ–∞—И–Є –Њ—В–Њ—И–ї–Є –Ї
—Ж–µ–љ—В—А—Г. –°–њ–∞—А—В–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—А–∞—В–∞—А—М –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї –Љ—П—З —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї—Г, —В–Њ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ
–њ—А–Њ–±–Є–ї –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–∞–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–Љ—Г, –љ–Њ –Љ—П—З –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –њ–∞—Е –љ–∞—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї—Г
–Я–µ—В–µ-–≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–Є–Ї—Г, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї—А—Г–≥–µ.
–Ю—В—Б–Ї–Њ—З–Є–≤—И–Є–є –Љ—П—З –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–њ–∞—А—В–∞–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤, –Є –Є–≥—А–∞
–њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ї—А—Г–≥–∞ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞—И
–љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Є–Ї –Я–µ—В—П. –Ю–љ, –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ—В—В–Њ–њ—Л—А–Є–ї —Б–≤–Њ–Є
—В—А—Г—Б—Л, –Ј–∞–ї–µ–Ј –≤ –љ–Є—Е –Њ–±–µ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –ї–Њ–Ї–Њ—В—М –Є —Б—В–∞–ї –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Є—А–∞—В—М
—Г—И–Є–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞ –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ –Љ—Г–Ї–Є –∞–і–∞, –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ. –Х–≥–Њ –Є–≥—А–∞
—Г–ґ–µ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є.
–°—Г–і—М—П
–Љ–∞—В—З –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, –≤–µ–і—М –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ –љ–∞ —В—А–Є–±—Г–љ–∞—Е —А–∞–Ј–і–∞–ї—Б—П
–Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–≤–Є—Б—В. –Я—А–Њ—Б—В–Њ—П–≤ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–µ –Љ–Є–љ—Г—В –њ—П—В—М,
–Я–µ—В—П-–≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–Є–Ї –і–∞–ї—М—И–µ –Ј–∞–±–µ–≥–∞–ї, –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤ —З—С–Љ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ.
–Р —Б–њ–∞—А—В–∞–Ї–Њ–≤—Ж—Л –≤—Б—С –љ–∞—Б–µ–і–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—И–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Є –љ–∞—Б–µ–і–∞–ї–Є. –Т–Њ—В
–Ш–≥–Њ—А—М –Э–µ—В—В–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Љ—П—З –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –њ–Њ–ї—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –°–µ—А–≥–µ—О –Я–∞—А–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤—Г, —В–Њ—В
—Б–і–µ–ї–∞–ї —В–Њ—З–љ—Л–є –њ–∞—Б –Э–Є–Ї–Є—В–µ –°–Є–Љ–Њ–љ—П–љ—Г. –°–Є–Љ–Њ–љ—П–љ, –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј–љ–Њ –Њ–±—Л–≥—А–∞–≤ –і–≤—Г—Е
–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞",
–≤—Л—И–µ–ї –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ —Б –Ґ—Г—А–∞–µ–Љ. –°—В–∞–і–Є–Њ–љ –Ј–∞–Љ–µ—А. –Ґ—Г—А–∞–є –Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–є –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Є–Ј –≤–Њ—А–Њ—В
–Є
—Б–і–µ–ї–∞–ї —Б–≤–Њ–є —Д–Є—А–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—А—Л–ґ–Њ–Ї –≤ –љ–Њ–≥–Є –°–Є–Љ–Њ–љ—П–љ—Г, –љ–Њ —В–Њ—В –љ–µ —Б—В–∞–ї —Б–Є–ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—В—М
–љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–∞—В–∞—А—П, –∞ —В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ –њ—Г—Б—В–Є–ї –Љ—П—З –њ–Њ–і –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–≤—И–Є–Љ –ї–∞—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є –Ґ—Г—А–∞–µ–Љ. –Ь—П—З
–Ј–∞–Ї–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –љ–∞—И–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞.
–Ъ—А–∞—Б–Є–≤–Њ –ї–µ—В–µ–ї –Ґ—Г—А–∞–є –≤ –љ–Њ–≥–Є –°–Є–Љ–Њ–љ—П–љ–∞. –Ґ–∞–Ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Є –і–Њ–ї–≥–Њ,
—З—В–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї –Њ–љ –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ—П—В—М. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞,
–±—Л–ї
–≤—Л—В—П–љ—Г—В –≤ —Б—В—А—Г–љ–Њ—З–Ї—Г, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–≤ —А—Г–Ї–Є –≤–њ–µ—А—С–і. –Ю–љ, –ї–µ—В—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –≤
–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –±—Л–ї –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ. –Я—А–Њ—В–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М –њ–Њ–і –љ–Є–Љ –Љ—П—З –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–Љ—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А—Г –љ–µ
—Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —В—А—Г–і–∞. –Ґ—Г—А–∞–є —В–∞–Ї–Є–Љ –њ—А—Л–ґ–Ї–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г, —З–µ–Љ —Б—А—Л–≤–∞–ї –Ї—Г—З—Г
–∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —А–∞–і–Є —З–µ–≥–Њ –Њ–љ –Є —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П. –Т–µ—Б—М –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–є —Г—Б–њ–µ—Е –±—Л–ї
—А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ
–љ–∞ –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–µ—А–µ–і —В–∞–Ї–Є–Љ –і–µ–Љ–∞—А—И–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–µ—А—П–ї–Є—Б—М, –љ–Њ —В—Г—В —Н—В–Њ—В
–љ–Њ–Љ–µ—А
–љ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї. –Э–∞—И –Ґ—Г—А–∞–є —Б—А–∞–Ј—Г —Б–љ–Є–Ї –Є –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–і—А—П–і –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—П—З–µ–є.
–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В—З–∞ –Њ–љ —Г—И—С–ї –Є–Ј —Д—Г—В–±–Њ–ї–∞, –∞ –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ. –Х–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±—Л–ї –љ—Г–ґ–µ–љ
–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —В—А–µ–љ–µ—А.
–•–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ
"–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А–µ", –љ–Њ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Є –Ј–Є–Љ–Њ–є. –Ч–Є–Љ–Њ–є —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ
–Ј–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є
–≤–Њ–і–Њ–є, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П –≤ –Ї–∞—В–Њ–Ї. –Т—Е–Њ–і –±—Л–ї —В–Њ–ґ–µ –њ–ї–∞—В–љ—Л–Љ, –љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ
–і–ї—П
–љ–∞—Б. –Ь—Л –њ–µ—А–µ–ї–µ–Ј–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ–ї—О—З—Г—О –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї—Г. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –±—А–∞—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є?
–Т–µ–і—М
–љ–∞ –Ї–∞—В–Ї–µ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—З–µ—А.
–Ы—О–±–Є–Љ–Њ–є –Є–≥—А–Њ–є –і–ї—П –љ–∞—Б –±—Л–ї–Є —Б–∞–ї–Њ—З–Ї–Є. –°—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–Њ–Љ—Г
–≤–Њ–і–Є—В—М.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б –Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М. –Ф–∞–ї–µ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М
—Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—З–Ї–Є. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї —Б–≤–Њ—О, –Є–±–Њ –Њ–љ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ
—А–∞—Б–Ї–ї–∞–і–µ
—Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–µ—В. –І—В–Њ–±—Л –љ–∞—З–∞—В—М —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М
—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Є–≥—А–Њ–Ї–Њ–≤. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є, –Ј–љ–∞—П —З—Г–ґ—Г—О —Б—З–Є—В–∞–ї–Ї—Г, –±—Л—Б—В—А–Њ –≤ —Г–Љ–µ
–њ—А–Њ—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –µ—С, –Є –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, —В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—П
—Б–≤–Њ—О —Б—З–Є—В–∞–ї–Ї—Г. –Х–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і —В—Г—В –ґ–µ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї —Б–≤–Њ—О. –Ґ–∞–Ї –і–µ–ї–Њ
–і–Њ–ї–≥–Њ
—В–Њ–ї–Ї–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї —В–∞–Ї—Г—О –і–ї–Є–љ–љ—Г—О —Б—З–Є—В–∞–ї–Ї—Г,
—З—В–Њ —В–∞–Ї —Б—А–∞–Ј—Г –Є –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—И—М, –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–њ–∞–і—С—В. –°—З–Є—В–∞–ї–Ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –≤
—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–±–∞–≤–љ—Л–Љ–Є. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –±—А–∞–ї–Є—Б—М —Б—З–Є—В–∞–ї–Ї–Є, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ
–Ј–љ–∞–ї.
–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б—З–Є—В–∞–ї–Ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б. –Ю–љ
–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П
–љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –≤—Б–µ –Є–≥—А–Њ–Ї–Є –љ–µ —А–∞–Ј–±–µ–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞—В–Ї—Г. –Ч–∞–і–∞—З–∞
–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ
—Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Б—А–µ–і–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ –Ї–∞—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї–∞—В–Ї–∞ –љ–∞–є—В–Є
—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
–Є–≥—А–Њ–Ї–∞, –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ–≥–Њ –Є "–Њ—Б–∞–ї–Є—В—М". –Ґ–µ–њ–µ—А—М —В–Њ—В —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ–і—П—Й–Є–Љ. –Э–∞–є—В–Є
–Є–≥—А–Њ–Ї–∞ –≤ –Љ–∞—Б—Б–µ –Ї–∞—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –∞ –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ—Й—С —В—А—Г–і–љ–µ–µ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ,
–µ—Б–ї–Є –і–Њ–ї–≥–Њ –≥–љ–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ –Є–≥—А–Њ–Ї–Њ–Љ, —В–Њ —В–Њ—В –Љ–Њ–≥
–Ї—А–Є–Ї–љ—Г—В—М:
- –Ч–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –љ–µ –≥–Њ–љ–Ї–∞, - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ
–њ—П—В–Є—В–Њ–љ–Ї–∞.
–Ш —В–Њ–≥–і–∞ —В—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–≥—А–Њ–Ї–∞ –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—В—М
–і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–і–µ-—В–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –љ–∞–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–ї, –њ–Њ—Б–Љ–µ–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞–і —В–Њ–±–Њ–є, –∞
–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –±—Л–≤–∞–ї —В–Њ–±–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ, —В–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї —В–∞–Ї—Г—О —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ —В–µ–±–µ,
—Г—Б—В–∞–≤—И–µ–Љ—Г
–Њ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є –њ–Њ–≥–Њ–љ–Є, –±—Л–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –µ–≥–Њ –і–Њ–≥–љ–∞—В—М. –Х—Б–ї–Є –≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –±—Л–ї —Б–ї–∞–±–∞–Ї–Њ–Љ,
—В–Њ
–Є–≥—А–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї–ї—О—З–µ: –Њ–і–Є–љ –±–µ–≥–∞–ї –Ј–∞ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, –≤—Л—Б—Г–љ—Г–≤ —П–Ј—Л–Ї,
–∞
–Њ–љ–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, –њ–Њ–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞—П –њ—А–Є–±–∞—Г—В–Ї—Г, –µ—Б–ї–Є —В—Л –µ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–љ—П–ї –љ–µ
—Б—А–∞–Ј—Г.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї
–≤—Б–µ
–Ї–∞—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П, –∞ –Є –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –Є—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є —Г
–љ–∞—Б
–±—Л–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞–µ–Ј–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ, –≤–µ–і—М –Љ—Л –±—Л–ї–Є
–≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј–љ–Њ-–ї–Њ–≤–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–љ—М–Ї–Њ–±–µ–ґ—Ж–∞–Љ–Є. –Э–Њ, –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —П —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞
–≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–Љ —Е–Њ–і—Г —Б –Ї–µ–Љ-—В–Њ –Є–Ј –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї–∞—В–Ї–∞, —З—В–Њ –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –њ–Њ—В–µ—А—П–ї
—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ.
–°—А–µ–і–Є –љ–∞—Б –Њ–і–Є–љ –њ–∞—А–љ–Є—И–Ї–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ—И—С–ї –≤ —Б–±–Њ—А–љ—Г—О –°–°–°–† –њ–Њ
—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–≥—Г –љ–∞ –Ї–Њ–љ—М–Ї–∞—Е. –†–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ–Є —Б –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Љ—Л —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є
–њ–Њ
—А–∞–і–Є–Њ —Б –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –Є –і–∞–ґ–µ
–Ь–Є—А–∞.
–Т—А–µ–Љ—П —И–ї–Њ, –Є –Љ—Л –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–µ–ї–Є. –Я–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –≤—Б–µ —А–µ–±—П—В–∞ —Б—В–∞–ї–Є
–њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ–Ї —Г–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–Є–≥—А–∞—В—М –≤ —Б–∞–ї–Њ—З–Ї–Є, –∞ –њ–Њ–Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г —Б
–ї—О–±–Є–Љ–Њ–є
–і–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є. –Э–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Ї–∞—В–Ї–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞
—Б–∞–ї–Њ—З–µ–Ї, —В–Њ —А–µ–±—П—В–∞ —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е, –Ї –Є—Е –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є—О, –Є
–љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є
–Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –±–µ–≥–∞—В—М –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, - —В–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —В—П–≥–∞ –Ї —Н—В–Њ–є –∞–Ј–∞—А—В–љ–Њ–є
–Є–≥—А–µ.
–Э–Њ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ—Л –Ї–∞—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є
–ї—О–±–Є–Љ—Л–Љ–Є, –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—П—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ–≤—Ж–∞
–Т–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–Њ–≤–∞:
–ѓ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О –Т–∞—И
–њ–Њ—А—В—А–µ—В,
–Ш –Њ –ї—О–±–≤–Є –Т–∞—Б –љ–µ
–Љ–Њ–ї—О.
–Т –Љ–Њ—С–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ —Г–њ—А—С–Ї–Њ–≤
–љ–µ—В:
–ѓ –Т–∞—Б
–њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г
–ї—О–±–ї—О.
–Я—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞
–Т–Њ–ї–Њ–і—П, –°–∞—И–∞, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, - —Н—В–Њ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ. –Ь—Л –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М
–Ї–ї–Є—З–Ї–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ –Є, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, —В–Њ—З–љ–µ–µ. –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г,
–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є,
—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є - –Ц–µ—А–і—М, –µ—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ —Е—Г–і–Њ–є, - —В–Њ –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–љ -
–Ф–Њ—Е–ї—Л–є, –∞
—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є –њ–Њ—Е–ї–µ—Й–µ: –У–ї–Є—Б—В–∞. –Ю–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–љ—П –≤—Б–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ, –Ї–∞–Ї
–Ъ–∞—В—Л—Е.
–Э–∞ —Н—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–ї—Б—П, –∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –µ–≥–Њ –Є –љ–µ
—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є.
–Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞ –і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М? –Ю—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —А–∞–љ–љ–µ–є –Ј–Є–Љ–Њ–є
–Љ—Л
–≤—Б–µ –≤—Л—Б—Л–њ–∞–ї–Є –≤ —П–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Ј–∞–Љ—С—А–Ј–ї–∞. –ѓ–Љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —А—П–і–Њ–Љ —Б
–љ–∞—И–Є–Љ–Є
–±–∞—А–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є –і–∞ –Є –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Є –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –і–≤–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞–Љ –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є,
—В–∞–Ї
–Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ы–µ—В–Њ–Љ –≤ —П–Љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ –≤
–≤–Њ–і–µ –ї–Њ–≤–Є—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є –ї—П–≥—Г—И–µ–Ї, –∞ –Ј–Є–Љ–Њ–є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–∞–Ј–і–Њ–ї—М–µ –і–ї—П –љ–∞—Б.
–ѓ–Љ–∞ —Б–∞–Љ–∞
–њ–Њ —Б–µ–±–µ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є. –° –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –µ—С –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є –Ї—А—Г—В—Л–µ
–Њ–±—А—Л–≤—Л, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –ї—Л–ґ–∞—Е, –Є–≥—А–∞—П –≤ —Б–∞–ї–Њ—З–Ї–Є. –Я–Њ
–Ј–∞–Љ—С—А–Ј—И–µ–Љ—Г
–і–љ—Г –Ї–∞—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –љ–∞ –Ї–Њ–љ—М–Ї–∞—Е. –Я–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —Б–љ–µ–≥—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —В–∞—А–∞–љ—В–∞—Б–∞—Е —Б –њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—Е —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤.
–Ґ–∞—А–∞–љ—В–∞—Б -
–≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ
–Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –С–µ—А—С—И—М –≤–Њ–і–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ—Г—О —В—А—Г–±—Г, —Б–≥–Є–±–∞–µ—И—М –µ—С –њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ —Б
–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –і–≤–µ –Ј–∞–≥–Њ–≥—Г–ї–Є–љ—Л —Б–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—И—М –µ—Й—С —А–∞–Ј —В–Њ–ґ–µ
–њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—И—М —В–∞—А–∞–љ—В–∞—Б. –Э–∞ –љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—В–∞—В—М –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –љ–∞ –і–≤–µ
–њ–Њ–ї–Њ–Ј—М–Є,
—А—Г–Ї–∞–Љ–Є —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј–≥–Є–±, –Є —В—Л —Г–ґ–µ –Ї–∞—В–Є—И—М—Б—П —Б –≥–Њ—А—Л. –Т–Њ—Б—В–Њ—А–≥—Г-—В–Њ,
–≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥—Г-—В–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ! –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ј–∞—В—А–∞—В. –Ф–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М —В–∞—А–∞–љ—В–∞—Б—Л —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞
–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ.
–Э–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В—М —В—А—Г–±—Г –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–µ–µ, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–Ј—М—П—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П —Г–ґ–µ —Ж–µ–ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є. –Т–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞ –±—Л–ї–Њ –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ. –£—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М
—Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–µ–Ј–і—Л: –Ї—В–Њ –і–∞–ї—М—И–µ —Г–µ–і–µ—В –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ —В–∞—А–∞–љ—В–∞—Б–µ. –°–∞–љ–Ї–Є –±—Л–ї–Є
—А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М—О, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Є—Е –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В—М, –∞ —В—Г—В –і–∞—А–Љ–Њ–≤—Й–Є–љ–∞ - —В—А—Г–±-—В–Њ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥
–Ј–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М.
–Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М —П–Љ–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞–Љ—С—А–Ј–ї–∞. –Ы–µ–і–Њ–Ї –±—Л–ї
—В–Њ–љ–µ–љ—М–Ї–Є–є, –љ–Њ –љ–∞—Б –Њ–љ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї—Г—З–µ–є. –Т —А—Г–Ї–∞—Е —Г –љ–∞—Б
–±—Л–ї–Є
–њ–∞–ї–Ї–Є. –Ь—Л —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ –ї—М–і—Г –Є –і—Г–±–∞—Б–Є–ї–Є –њ–∞–ї–Ї–∞–Љ–Є —Б–µ–±–µ –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–Є, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—П, —В–Њ–ї—Б—В—Л–є
–ї–Є
–ї—С–і. –Ю—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –≥—Г–ї–Ї–Є–µ –Є –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є –Њ—В —Г–і–∞—А–Њ–≤ –њ–Њ –ї—М–і—Г –љ–∞—И–Є—Е –њ–∞–ї–Њ–Ї.
–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ
—Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –љ–µ –≤–µ–Ј–ї–Њ, –Є –Њ–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ –≤ –≤–Њ–і–µ. –Ъ–Њ–µ-–Ї—В–Њ
–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –њ–Њ –њ–Њ—П—Б –Є –њ–Њ—И—С–ї —Б—Г—И–Є—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є, –Њ–ґ–Є–і–∞—П —В—Г–Љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–µ
–±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –Ї–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є –њ–Њ –ї—М–і—Г –њ–∞–ї–Ї–∞–Љ–Є, —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–≤—Г–Ї–∞–Љ –Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П
—В—А–µ—Й–Є–љ–∞–Љ.
–Ь—Л —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —А–µ–±—П—В–Є—И–Ї–∞–Љ–Є: —Н—В–∞–Ї –ї–µ—В –њ–Њ 10, 12, –љ–Њ
–Ї
–љ–∞–Љ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —О–љ—Л–є –Љ–∞–ї–µ—Ж –Т–Є—В—П. –Ю–љ –њ—А–Є–љ—С—Б —Б —Б–Њ–±–Њ–є —Б–∞–Љ—Г—О –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–∞–ї–Ї—Г,
–Ї–∞–Ї—Г—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Љ–Њ–≥ –њ–Њ–і–љ—П—В—М. –†–∞–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–µ–є, –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞—П—Б—М —Г–і–∞—А–Є—В—М –њ–Њ
–ї—М–і—Г, –і–∞
–Є —Г–њ–∞–ї –љ–∞ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Ї–Є–є –ї—С–і. –Ю—В –µ–≥–Њ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ –ї—М–і—Г –њ–Њ—И–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л
—В—А–µ—Й–Є–љ—Л.
–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —В—А–µ—Й–Є–љ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ, –Є –Њ–љ–∞ –µ–Љ—Г —В–∞–Ї –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї
–љ–∞–Љ
—Б —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Њ–Љ, –Ї–∞—А—В–∞–≤–Њ –љ–µ –≤—Л–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П –±—Г–Ї–≤—Г
"—А":
- –°–Љ–Њ—В–ї–Є—В–µ,
–Ї–∞–Ї–∞—П
—В–µ—Б–Є–љ–Ї–∞!
- –°–∞–Љ —В—Л
–Ґ–µ—Б–Є–љ–Ї–∞, -
–Ј–∞—А–ґ–∞–ї–Є –Љ—Л.
–° —В–µ—Е –њ–Њ—А –≤—Б–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –Ј–Њ–≤—Г—В –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є, –Є —Б—В–∞–ї–Є
–Ј–≤–∞—В—М:
–Ґ–µ—Б–Є–љ–Ї–∞.
–ѓ —Б–∞–Љ, –љ–∞—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ –і–µ—П–љ–Є—П—Е –Я–µ—В—А–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ
–±–Њ—В–Є–Ї –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ, —А–∞—Б—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –Љ–µ–ґ –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є –Є –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і–∞
–±–µ–Ј—Г–Љ–Њ–ї–Ї—Г
–њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї:
- –С–Њ—В–Є–Ї –Я–µ—В—А–∞
–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –і–µ–і—Г—И–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞.
–° —В–µ—Е –њ–Њ—А –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —П —Б—В–∞–ї –С–Њ—В–Є–Ї–Њ–Љ. –Ш–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –љ–µ
–±—Л–ї–Њ
–њ—А–µ–і–µ–ї–∞:
- –С–Њ—В–Є–Ї,
—А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є
–љ–∞–Љ –Њ –Я–µ—В—А–µ –Є –µ–≥–Њ –±–Њ—В–Є–Ї–µ. –С–Њ—В–Є–Ї, –∞ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—И—М –ї–Є —В—Л –љ–∞–Љ —Б–≤–Њ–є –±–Њ—В–Є–Ї? –С–Њ—В–Є–Ї,
–Ї–∞–Ї? –Ґ—Л –µ—Й—С –љ–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–Њ—В–Є–Ї–∞? –Ь–Њ–ґ–µ—В —Г —В–µ–±—П –і–Њ—Б–Њ–Ї
–љ–µ—В?
–†–µ–±—П—В–∞, –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ–Љ –С–Њ—В–Є–Ї—Г —Б –і–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є?
–£ –Љ–µ–љ—П —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ—М—П –±—Л–ї —А–Њ–≤–љ—Л–є —А–∞–Ј—А–µ–Ј –≥–ї–∞–Ј, –љ–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В—Л–є
—Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Є–Ј–≤–љ–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —Б–Ї–ї–∞–і–Ї–Њ–є –≤–µ–Ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П —З–∞—Б—В–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є
—В–∞—В–∞—А–Є–љ–Њ–Љ:
- –°–Љ–Њ—В—А–Є,
–Ґ–∞—В–∞—А–Є–љ
–њ—А–Є—И—С–ї. –•–Њ—З–µ—В —Б –љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–Є–≥—А–∞—В—М –≤ —З–µ—Е–∞—А–і—Г. –Э–∞–Љ —З—В–Њ? —В—А—С—Е—Б–Њ—В–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–Є–≥–∞
–љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В? –Ш–і–Є, –Ґ–∞—В–∞—А–Є–љ, –њ–Њ–Є–≥—А–∞–є —Б –У–Њ–≥–Њ–є.
–ѓ –Њ–±–Є–ґ–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М. –Э–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –±—Л–ї–Њ. –Т—Б–µ—Е –Ј–≤–∞–ї–Є –њ–Њ
–Ї–ї–Є—З–Ї–∞–Љ, –Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–Њ—А–Љ–Њ–є. –Я–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Ї–ї–Є—З–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А,
—В–≤–Њ—П
—Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –І–∞–є–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ј–љ–∞—З–Є—В —В—Л –І–∞–є–љ–Є–Ї. –Х—Б–ї–Є —Г —В–µ–±—П —А—Л–ґ–Є–µ –≤–Є—Е—А—Л –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, —В–Њ
–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ
—В—Л –†—Л–ґ–Є–є. –Т–Њ–ї–Њ–і—О –®–∞–њ–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ј–≤–∞–ї–Є –®–њ—А–Њ—В. –Т–Њ–ї–Њ–і—О –Ч–µ–Ј–Є–ї—С–≤–∞ –Ј–≤–∞–ї–Є –Ч—О–ї—П, –Є —В–∞–Ї
–і–∞–ї–µ–µ.
–Э–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞ –і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –Њ—В —З–µ–≥–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ґ–Њ–ї—О –Ю–±—Г—Е–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ
–Ј–≤–∞–ї–Є
- –С—Г—А—Н –Є–ї–Є –Ґ–Њ—И–∞.
–Я—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞ –і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–∞ –і–µ–љ—М, –Є–ї–Є –і–≤–∞, - –і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –љ–∞
–≤—Б—О
–ґ–Є–Ј–љ—М. –І–µ—А–µ–Ј —Б–Њ—А–Њ–Ї —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ –ї–µ—В –Є–і—С–Љ –Љ—Л —Б –Ґ–Њ–ї–µ–є –Ю–±—Г—Е–Њ–≤—Л–Љ –њ–Њ –Э–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Р—А–±–∞—В—Г.
–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–µ —Г–Ј–љ–∞—О—В –Ґ–Њ–ї—О, —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞ –Є –Ї–Є–љ–Њ, –Є
–љ–∞
–љ–µ–≥–Њ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П.
- –С–Њ—В–Є–Ї, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Љ–љ–µ –Ґ–Њ–ї—П, - –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –Ї–∞–Ї –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Љ—Л
—Б
—В–Њ–±–Њ–є –±–µ–≥–∞–ї–Є –њ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–∞–Љ –Є —Б–≤–∞–ї–Ї–∞–Љ? –Ъ—В–Њ –±—Л –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —П
—Б—В–∞–љ—Г
—Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ, –∞ —В—Л –і–∞–≤–∞—В—М —Б–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–µ—Б–µ–љ?
- –Ґ–Њ—И–∞, - –Њ—В–≤–µ—З–∞—О —П, - —Б–Љ–Њ—В—А–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —В–µ–±—П –њ—П–ї–Є—В—Б—П –≤–Њ–љ —В–∞
–±–ї–Њ–љ–і–Є–љ–Ї–∞?
- –С–Њ—В–Є–Ї, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ґ–Њ–ї—П, - —Е–Њ—З–µ—И—М —П –і–ї—П —В–µ–±—П
"–Ј–∞–Ї–∞–і—А—О"
—Н—В—Г —З—Г–≤–Є—Е—Г, –≤–µ–і—М —В—Л —Б–∞–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —В–∞–Ї –Є –љ–µ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П.
–Ґ–Њ–ї—П —А–∞–Ј–≤—П–Ј–љ–Њ –Љ–∞–љ–Є—В –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ, —В–∞, —Б—В–µ—Б–љ—П—П—Б—М,
–њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В. –Ч–∞—В–µ–Љ –Ґ–Њ–ї—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ, —П –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤–Њ –њ–Њ–і–∞—О –і–µ–≤—Г—И–Ї–µ
—А—Г–Ї—Г,
–Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—П—Б—М, —З—В–Њ —П –љ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В. –Ґ–Њ–ї—П —Б–µ–±—П –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В, –Є–±–Њ
–µ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –Ј–љ–∞—В—М –≤—Б–µ –Є —В–∞–Ї. –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –Ґ–Њ–ї—О,
—В–Њ—В
–љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, –±–∞–ї–∞–≥—Г—А–Є—В. –Ф–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В. –Ґ–Њ–ї—П –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П
–њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ, –љ–Њ —П, –Ї–∞–Ї –≤ —А–Њ—В –≤–Њ–і—Л –љ–∞–±—А–∞–ї. –Ґ–Њ–ї—П
–њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–µ—В
–і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –Ї —Б–µ–±–µ –≤ —В–µ–∞—В—А –љ–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –µ–є, —З—В–Њ –і–ї—П –љ–µ—С –±—Г–і–µ—В –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Г
–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞ —В–µ–∞—В—А–∞ –У–Њ–≥–Њ–ї—П
–Ї–Њ–љ—В—А–∞–Љ–∞—А–Ї–∞.
–Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –љ–∞—Б, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В. –Ґ–Њ–ї—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В
–Љ–љ–µ:
- –С–Њ—В–Є–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞
—В—Л
–њ–Њ—Г–Љ–љ–µ–µ—И—М? –І—Г–≤–Є—Е–Є –ї—О–±—П—В –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–≤. –£—З–Є—Б—М, –њ–Њ–Ї–∞ —П –ґ–Є–≤. –Я–Њ–є–і—С–Љ-–Ї–∞,
–Ј–∞—Б–Ї–Њ—З–Є–Љ –≤ –Љ–Њ—О –ї—О–±–Є–Љ—Г—О –±—Г–ї–Њ—З–љ—Г—О: —В–∞–Љ —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Ї—Г—Б–љ—Л–µ –±—Г–ї–Њ—З–Ї–Є –њ—А–Њ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є –Њ–±–ї–Є–ґ–µ—И—М! –С—Г–ї–Њ—З–Ї–Є —Б–≤–µ–ґ–µ–љ—М–Ї–Є–µ, —Б
–њ—Л–ї—Г-–ґ–∞—А—Г.
–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ю–±—Г—Е–Њ–≤. –Ї/—Д "–Я–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В —Б
–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–Љ".
–Ч–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤ –±—Г–ї–Њ—З–љ—Г—О —Б —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –±–µ—А—С–Љ –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ–Ї—Г
–і–ї—П
–њ–Њ–Ї—Г–њ–Њ–Ї. –Ґ–Њ–ї—П –љ–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –≥–Њ—А—Г —Б–≤–µ–ґ–Є—Е, –і—Г—И–Є—Б—В—Л—Е –±—Г–ї–Њ—З–µ–Ї –≤ –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Є—Е, –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М, –µ—Б—В—М —Б—В–Њ—П –≤
–Њ—З–µ—А–µ–і–Є
–Ї –Ї–∞—Б—Б–µ. –Х—Б—В –Њ–љ —Б–Њ —Б–Љ–∞–Ї–Њ–Љ, –љ–µ —В–∞—П—Б—М, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Њ–±–ї–Є–Ј—Л–≤–∞—П —Б–∞—Е–∞—А–љ—Г—О –њ—Г–і—А—Г
—Б
–њ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤. –Х–≥–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Ї–Њ–љ—Д—Г–Ј–Є—В —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–ї–Њ—З–Ї–Є
–Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М,
–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ—Б—В—М. –Э–∞ –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–µ –ї—Г–Ї–∞–≤–∞—П —Г–ї—Л–±–Ї–∞. –Т—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–Љ–Њ—В—А—П—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є
–њ–µ—А–µ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П: –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –µ—Б—В –±—Г–ї–Њ—З–Ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є, –і–Њ –Є—Е –Њ–њ–ї–∞—В—Л.
–Ґ–Њ–ї—О —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–µ—В.
–Ъ–∞—Б—Б–Є—А—И–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Л –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —Б
–љ–∞—Б
50 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї –Ј–∞ –і–≤–µ –±—Г–ї–Њ—З–Ї–Є. –ѓ –µ—С –њ—А–Њ—И—Г –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –±—Г–ї–Њ—З–µ–Ї. –Ъ–∞—Б—Б–Є—А—И–∞ –Љ–љ–µ
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –≤–Є–і–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–µ –±—Г–ї–Њ—З–Ї–Є. –ѓ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—О –љ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є –±—Г–ї–Њ—З–Ї–∞—Е. –Ґ–Њ–ї—П
–њ—А–Є
—Н—В–Њ–Љ —Б—В–Њ–Є—В —Б –љ–µ–≤–Є–љ–љ—Л–Љ, –ї—Г–Ї–∞–≤—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Є –њ–Њ–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤–Њ–є
–Њ–±—К—С–Љ–Є—Б—В—Л–є
–ґ–Є–≤–Њ—В. –ѓ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О –Ї–∞—Б—Б–Є—А—И–µ, —З—В–Њ –Љ—Л —И–µ—Б—В—М –±—Г–ї–Њ—З–µ–Ї —Г–ґ–µ —Б—К–µ–ї–Є. –Ґ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й—С–љ–љ–Њ
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Љ–љ–µ, —З—В–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–ї–Њ—З–Ї–Є –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є—Е –µ—Б—В—М. –Э–Њ —В—Г—В
–Њ–љ–∞
–њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –Ґ–Њ—И—Г –Є –≤—Б—С –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В. –Ґ–Њ–ї—П —Б –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–љ—Г—В—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ
—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –ї—О—Б—В—А—Г –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –≤–Є–і, —З—В–Њ —А–µ—З—М –Є–і—С—В
–љ–µ
–Њ –љ—С–Љ. –Т—Б—С —Н—В–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ –∞—А—В–Є—Б—В–Є–Ј–Љ–∞, —З—В–Њ –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥
—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї–Є –Ј–∞—Г–ї—Л–±–∞–ї–Є—Б—М...
–†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞—И–Є–Љ–Є –±–∞—А–∞–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —З–∞—Б—В–љ—Л–є –і–Њ–Љ —Б
–Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ. –Ц–Є–ї–∞ –≤ –љ—С–Љ —Б–µ–Љ—М—П, –≥–і–µ —Б—А–µ–і–Є –і–µ—В–µ–є –±—Л–ї–Є –Ъ–Њ–ї—П –Є –Ь–Є—В—П. –Ъ–Њ–ї—О
–≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –Ј–≤–∞–ї–Є –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ –Ъ–Њ–ї—О–љ–µ–є, –∞ –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ –љ–µ–і–Њ–ї—О–±–ї–Є–≤–∞–ї–Є -
–Ь–Є—В—О—Е–Њ–є. –Ъ–Њ–ї—О–љ—П –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е–Њ —Г—З–Є–ї—Б—П, —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Ї—Г. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ
–њ–Њ—И–ї–Є —Г—З–Є—В—М—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ, –∞ –Ъ–Њ–ї—О–љ—П –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Є –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ
–њ–Њ–љ–∞–Њ–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Є —В–∞–Љ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ, –Њ–±–Ј–∞–≤–µ–ї–Є—Б—М —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, –Ъ–Њ–ї—О–љ—П —В–∞–Ї –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –Є –љ–µ
–њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї. –Э–∞–Љ –≤—Б–µ–Љ —Г–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Ј–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М, –Љ—Л –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–Є –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л
–Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л,
–Є —В—Г—В –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –њ–Њ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є —Б—В–∞–ї —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞—И –Ъ–Њ–ї—О–љ—П, —Б–Є—П—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–Є—Й–µ–љ–љ—Л–є
—Б–∞–Љ–Њ–≤–∞—А. –° —Е–Њ–і—Г –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–є –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–є
—Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є –±–Є–ї–µ—В, –≥–Њ–≤–Њ—А—П:
- –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М,
—Б—В–∞—А–Є–Ї, —П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В. –Т–Њ—В —В–∞–Ї-—В–Њ, - —П —Б—В—Г–і–µ–љ—В. –Ю–љ —Ж–µ–ї—Л–є –≤–µ—З–µ—А –Љ–Њ–≥
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г —В–µ–Љ—Г - —Б–≤–Њ—О —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї—Г—О. –°–±—Л–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ –≤–µ–Ї–Њ–≤–∞—П
–Љ–µ—З—В–∞, —З—В–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—М–љ–Њ. –Ы—Г—З—И–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ, —З–µ–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞.
–°–∞–Љ–Њ–ї—С—В–љ–∞—П –Ъ—А—Л—Б–∞
–Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±–∞—А–∞–Ї–∞ –ґ–Є–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —Б–µ–Љ—М—П
–Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є–љ—Л—Е.
–Ш—Е —Б—Л–љ –С–Њ—А–Є—Б –±—Л–ї —Г–ї—Л–±—З–Є–≤—Л–Љ –њ–∞—А–љ–Є—И–Ї–Њ–є, —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ї –Є—А–Њ–љ–Є–Є –Є –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ
–Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ.
–Х—Б–ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ, —В–Њ —Н—В–Њ –µ–≥–Њ, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –љ–µ
—Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Њ:
- –Р –љ–µ
–љ–∞–≤–µ—Б—В–Є—В—М
–ї–Є –љ–∞–Љ —Б "–і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ" –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ –±–∞–±–Ї—Г –Ы–µ–љ—Г?
–Ш —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ —А—П–і—Л –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–∞–і –±–µ–і–љ–Њ–є
—Б—В–∞—А—Г—И–Ї–Њ–є,
—Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ –≤—Б—С –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є,
—З—В–Њ
–њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –љ–∞—Б, –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –±–µ–Ј–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –£–≤–Є–і–µ—В—М –±–∞–±–Ї—Г –Ы–µ–љ—Г –≤
–Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–µ
—Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –і–ї—П –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ.
–С–Њ—А—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ –і–≤–Њ—А—Г —Б –µ—Е–Є–і–љ–Њ–є —Г–ї—Л–±–Њ—З–Ї–Њ–є
–љ–∞
–ї–Є—Ж–µ, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–Є–Ј–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П –і–∞–ґ–µ –љ–∞–і —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –і–µ–і–Њ–Љ. –£ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –±—Л–ї–Њ
–њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ - –Ъ—А—Л—Б–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В –µ–≥–Њ –µ—Е–Є–і—Б—В–≤–∞ –Є –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є
–Њ–љ
–±—Л–ї —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ. –І—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —В–∞–Ї —Н—В–Њ –µ–≥–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ї–Њ—Б–љ—П—Й–µ–µ—Б—П –Њ—В
–ґ–Є—А–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–ґ–Є –ї–Є—Ж–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –µ–≥–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є,
—Г–Љ—Л–≤–∞–ї—Б—П –ї–Є –Њ–љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –Є —Б –Љ—Л–ї–Њ–Љ, –љ–Њ –ґ–Є—А–љ–Њ—Б—В—М
–µ–≥–Њ
–Ї–Њ–ґ–Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ
–Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ –њ—А—Л—Й–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ.
–С—Л–ї —Г –љ–µ–≥–Њ
—Б—В–∞—А—Л–є-–њ—А–µ—Б—В–∞—А—Л–є
–і–µ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –њ–µ–љ—Б–Є—О. –£ –і–µ–і–∞ –±—Л–ї –њ—А–µ–Њ—В–ї–Є—З–љ–µ–є—И–Є–є –∞–њ–њ–µ—В–Є—В. –£ –Ї–Њ–≥–Њ –≤ —В–µ
–≥–Њ–і—Л –∞–њ–њ–µ—В–Є—В –±—Л–ї –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є
–Љ–µ—А–µ —А–µ–і–Ї–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М, - –њ—А–Њ—Б—В–Њ, –µ—Б—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –Э–Њ –і–µ–і—Г –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ–є
–∞–њ–њ–µ—В–Є—В
–≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж.
–Ю–±—Л—З–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –≤—Б–µ –µ–ї–Є? –Ъ–∞—А—В–Њ—И–Ї–∞, –Ї—А—Г–њ—Л, –Љ–∞–Ї–∞—А–Њ–љ—Л,
–Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ,
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–Љ –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –±–∞—А–∞–Ї —А–∞–љ–Њ —Г—В—А–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є
–±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—А–Њ–і–∞, –і–∞ –Є –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–∞—П –Љ–µ–ї–Њ—З—М, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Й–∞–≤–µ–ї—М –≤ –њ—Г—Б—В—Л—Е
—Й–∞—Е. –•–ї–µ–±–∞ –µ–ї–Є –љ–µ –≤–≤–Њ–ї—О, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Е–ї–µ–± –±—Л–ї –њ–Њ –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–∞–Љ. –°–µ–Љ—М—П –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є–љ—Л—Е
–µ–ї–∞
–љ–µ –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ. –Э–Њ, –љ–µ –Є—Е –і–µ–і. –Ф–µ–і, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї —Б–≤–Њ—О –њ–µ–љ—Б–Є—О,
–њ—А–Є–Ї–∞—А–Љ–∞–љ–Є–≤–∞–ї –µ—С —З–∞—Б—В—М –Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї —Б–µ–±–µ –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л.
–Ю, –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–∞! –Ґ—Л –±—Л–ї–∞ –Ї—Г–ї–Є–љ–∞—А–љ–Њ–є –Љ–µ—З—В–Њ–є –≤—Б–µ—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞—И–µ–є
—Г–ї–Є—Ж—Л, –і–∞ –Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л —В–µ—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ. –Ъ–∞–Ї —В—Л
–±—Л–ї–∞
–≤–Ї—Г—Б–љ–∞! –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–є –Њ –њ—А–Є–Љ–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є–Є –≤ —В–µ–±—П –≤—Б—П–Ї–Њ–є –і—А—П–љ–Є, –Ї–∞–Ї
—Н—В–Њ
–і–µ–ї–∞—О—В —Б–µ–є—З–∞—Б. –Ґ—Л –±—Л–ї–∞ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–Љ —Б –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Ї—Г—Б–Њ–Љ! –Ґ—Л
–±—Л–ї–∞
–њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –Љ–µ—З—В–∞–љ–Є–є! –Ґ—Л –±—Л–ї–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є, —А–∞–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ–Є–ї–Њ –ґ–Є—В—М,
–Є–±–Њ,
–Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Л –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞ –Ї –љ–∞–Љ –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ –≤ —А–Њ—В, —В–Њ —В–µ–±—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ
—Б—А–∞–Ј—Г
—А–∞–Ј–ґ—С–≤—Л–≤–∞—В—М –Є –≥–ї–Њ—В–∞—В—М. –Ґ–µ–±—П –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї –Є –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Њ—Б–∞—В—М, –Ї–∞–Ї
–ї–µ–і–µ–љ–µ—Ж. –Ґ–µ–±—П —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Ї—Г—Б—Л–≤–∞—В—М –Ј—Г–±–Ї–∞–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —Г —В–µ–±—П
—Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М.
–Э–Њ, –і–µ–і—Г –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г –њ—Г–љ–Ї—В—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ
–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ј—Г–±–Њ–≤ —Г –љ–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ф–µ–і —А–∞—Б—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –њ–Њ
–Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ,
–Ј–∞–ґ–∞–≤ –≤ —А—Г–Ї–µ –Ї—Г—Б–Њ–Ї –њ–Њ–ї—Г–Ї–Њ–њ—З—С–љ–Њ–є –Њ–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ
–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–∞. –Ю—В–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –Њ–љ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—В–Ї—Г—Б—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і—С—Б–љ–∞–Љ–Є –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л
–Є
–і–Њ–ї–≥–Њ –µ–≥–Њ —Г—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї –њ–Њ –≤—Л—И–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–Њ –±–µ–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞.
–Я—А–Є
—Н—В–Њ–Љ –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞—А–Њ–Љ–∞—В, —З—В–Њ —Г –≤—Б–µ—Е
–і–Њ–Љ–Њ—З–∞–і—Ж–µ–≤ —В–µ–Ї–ї–Є –Є–Ј–Њ —А—В–∞ —Б–ї—О–љ–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї–Њ—И–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ —Е–Њ–і–Є—В—М
–≤–Њ–Ї—А—Г–≥
–і–µ–і–∞ –Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є –Є –≤—Л–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Г, –Є—Б—В–Њ—И–љ–Њ –Љ—П—Г–Ї–∞—П. –Ъ–Њ–ї–±–∞—Б—Г –Њ–љ–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞
–љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ –Њ–±–Њ–љ—П–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–Њ—В–Њ—П–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–Є—Й–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П
—Е–≤–Њ—Б—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Њ–ґ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Ј–∞–і–Є—А–∞–ї—Б—П —В—А—Г–±–Њ–є
–≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ
–≤–µ—А—Е –Є —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ –њ–Њ–і—А–∞–≥–Є–≤–∞–ї.
–Ф–µ–і –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞—В—М. –Ю–љ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є–ї —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≤
—Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л;
–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–і–љ–∞ –ї–∞–і–Њ–љ—М —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞, –∞ –і—А—Г–≥—Г—О –ї–∞–і–Њ–љ—М, —Б –Ј–∞–ґ–∞—В–Њ–є –≤ –љ–µ–є
–Ї–Њ–ї–±–∞—Б–Њ–є, –Њ–љ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –Ї–Њ—И–Ї–µ, –∞ –љ–µ –Ї
–Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ:
- –Э—Г, —З–µ–≥–Њ —В–µ–±–µ
–Њ—В
–Љ–µ–љ—П –љ–∞–і–Њ? –С—А—Л—Б—М! –Т–Є–і–Є—И—М? –£ –Љ–µ–љ—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В.
–С–Њ—А–Є—Б, –≤–љ—Г–Ї –і–µ–і–∞, —В–Њ–ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Г. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Њ—В
–і–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л –Є –µ–Љ—Г –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–њ–∞–і–∞–ї–Њ. –Т —В–∞–Ї–Є—Е —А–µ–і–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Њ–љ
–≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї
–≤–Њ –і–≤–Њ—А —Б –Ј–∞–ґ–∞—В–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–µ –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–Њ–є –Є —Б –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞ –Ї—А–Є—З–∞–ї:
- –°–Њ—А–Њ–Ї –Њ–і–Є–љ,
–љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –і–∞–і–Є–Љ.
–Ґ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ
–њ—А–Є–љ—П—В–Њ.
–Ь—Л, –і–µ—В–Є—И–Ї–Є, –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є –µ—Б—В—М –і–Њ–Љ–∞, - —Н—В–Њ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ –Є –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ. –Ф–∞ –Є –≤–Ї—Г—Б –љ–µ
—В–Њ—В. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—Г—З—И–µ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г –Ї –і—А—Г–Ј—М—П–Љ –Є –≤—А–∞–≥–∞–Љ —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Г –≤—Б–µ—Е –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–≤–љ—Г, –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ–Љ, —З—В–Њ —Г —В–µ–±—П
–≤
—А—Г–Ї–∞—Е –Ї—Г—Б–Њ–Ї —З—С—А–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –ї–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ш –љ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —В–∞–Љ
–њ–∞—А—И–Є–≤—Л–є
–Ї—Г—Б–Њ–Ї –Є–Ј —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –±—Г—Е–∞–љ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–µ—В –≤ –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М
–±—Л—Б—В—А–Њ, –∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –≥–Њ—А–±—Г—И–Ї–∞, –ґ—Г—О—Й–∞—П—Б—П –і–Њ–ї–≥–Њ –Є —Б–Љ–∞—З–љ–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–∞
–≤–Ї—Г—Б–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ–Њ–і—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б—Л–њ–∞–љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є —Б–Њ–ї—М—О. –Ш —З—В–Њ –µ—Й—С: –Њ–љ–∞
–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ
–љ–∞—В—С—А—В–∞ —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ —З–µ—Б–љ–Њ–Ї–Њ–Љ –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є —А–µ–і–Ї–Є–µ –Љ–Є–љ—Г—В—Л
–њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ
—Б—З–∞—Б—В—М—П, –љ–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є.
–Ґ—Л —Б—В–Њ–Є—И—М —Б —Н—В–Є–Љ –Ї—Г—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ –≤ —В—А–Є
—Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–Є;
—В—Л —Г–ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї—Г, —В—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ—В–Ї—Г—Б–Є–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї –Њ—В
–ї–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, —В—Л –і–µ—А–ґ–Є—И—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Н—В—Г –Њ—В–Ї—Г—Б–∞–љ–љ—Г—О –≥–Њ—А–±—Г—И–Ї—Г –≤ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–µ, —З—В–Њ–±—Л –µ—С –≤—Б–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є, –Є —Н—В–Њ —Г —В–µ–±—П
–љ–Є–Ї—В–Њ
–љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В–љ—П—В—М, –Є–±–Њ —В—Л —Г—Б–њ–µ–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: "–°–Њ—А–Њ–Ї –Њ–і–Є–љ, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ
–і–∞–і–Є–Љ".
–Э–Њ, –µ—Б–ї–Є —В—Л
—А–∞—Б—В—П–њ–∞,
–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї, —В–Њ —В—Г—В –ґ–µ –Ї —В–µ–±–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –ї—О–±–Њ–є –Є–Ј
—В–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є, –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤—А–∞–≥–Њ–≤, –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М:
- –Т—А–µ–Љ—П
–њ—А–Њ—Б–Є—В—М, –і–∞–є –Њ—В–Ї—Г—Б–Є—В—М.
–Ш —В–Њ–≥–і–∞ —В–µ–±–µ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –і–∞—В—М –µ–Љ—Г –Њ—В–Ї—Г—Б–Є—В—М –Њ—В —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞
–Њ–і–Є–љ
—А–∞–Ј. –Э–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—Б–∞–љ–Є—П —В–µ–±–µ —З—В–Њ-—В–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П, —В–Њ —В–µ–±–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ, –Є–±–Њ
–њ—А–Є
—Н—В–Њ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є —А–Њ—В –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ, —З—В–Њ —В—Г–і–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–µ
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≤—Б—П —В–≤–Њ—П –≥–Њ—А–±—Г—И–Ї–∞, –љ–Њ –Є –њ–Њ–ї —В–≤–Њ–µ–є —А—Г–Ї–Є, –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ –ї–Њ–Ї–Њ—В—М. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М
–Њ—З–µ–љ—М –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –њ—А–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї—Г.
–Ш –≤–љ—Г–Ї –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–µ–і–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї. –Ю–љ
–≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї
—Б –Ї—Г—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ, –і–µ—А–ґ–∞ –µ—С –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –≤ —А—Г–Ї–µ, –Ї–∞–Ї —Б–≤–µ—З–Ї—Г. –Ю–љ –µ—Й—С
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є–Ј –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–є, –љ–Њ —Н—В–Њ—В –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–є –Ї–ї–Є—З—М –Є–Љ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—С–љ. –Э–∞–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≥–ї–Њ—В–∞—В—М
—Б–ї—О–љ–Є –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –С–Њ—А–Є—Б –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є–љ –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ –Њ—В–Ї—Г—Б—Л–≤–∞–ї –Њ—В –і–µ–і–Њ–≤–Њ–є
–Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л,
–њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞—П —Б –љ–µ–є –≤—Б–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –љ–µ–ґ–љ–Њ–µ
–њ–Њ–Ї—Г—Б—Л–≤–∞–љ–Є–µ –µ—С –Ј—Г–±–∞–Љ–Є, –Є–±–Њ –Ј—Г–±–Њ–≤ —Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –±—Л–ї–Њ –≤ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ
–≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –С–Њ—А—О –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є–љ–∞? –Э–µ —В—А—Г–і–љ–Њ –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П.
–С—Л–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞—А—В–Є—Б—В—Л, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л, –њ–Њ—Н—В—Л,
–і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є,
–њ—А–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–µ —Б–≤–Њ–є —В–∞–ї–∞–љ—В –≤ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ, –љ–Њ –Є –ї—С—В—З–Є–Ї–Є. –С–Њ—А–Є—Б –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–Є–љ
—З–µ—А–µ–Ј
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –ї—С—В–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є —Б—В–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –ї—С—В—З–Є–Ї–Њ–Љ,
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ—Л –≤—Б–µ –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї–Є. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –љ–µ–±–µ –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В, —В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞
–Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б:
- –Р –љ–µ –љ–∞—И–∞ –ї–Є
–Ъ—А—Л—Б–∞ —В–∞–Ї –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –ї–µ—В–Є—В?
–С–∞–±–∞
–Ы–µ–љ–∞, –і–∞–є –њ–Њ–ї–µ–љ–Њ, –Є –Т–∞—Б—С–Ї
–Э–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є
–љ–∞—И
—Г–і–∞—А –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–≥—А—Л –≤ —Д—Г—В–±–Њ–ї. –І–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –њ–Њ
–Њ–Ї–љ–∞–Љ.
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ –љ–∞—И –Љ—П—З —Г–≥–Њ–і–Є–ї –≤ –Њ–Ї–љ–Њ –±–∞–±–Ї–Є –Ы–µ–љ—Л. –С–∞–±–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ —Б
–Ї–Њ—З–µ—А–≥–Њ–є
–Є —Б—В–∞–ї–∞ –≥–Њ–љ—П—В—М—Б—П –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є –њ–Њ –і–≤–Њ—А—Г. –Э–Њ –Ї—Г–і–∞ —В–∞–Љ, - –Љ—Л —Г–≤—С—А—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Б—П –Њ—В
–Ї–Њ—З–µ—А–≥–Є,
–і–∞ –µ—Й—С –Є –њ—А–Є–њ–µ–≤–∞–µ–Љ:
- –С–∞–±–∞ –Ы–µ–љ–∞,
–і–∞–є
–њ–Њ–ї–µ–љ–Њ, –љ–µ—З–µ–Љ –њ–µ—З–Ї—Г —А–∞—Б—В–Њ–њ–Є—В—М.
–≠—В–Њ –µ—С –Љ—Л
–Ї–∞–ґ–і—Л–є
–≤–µ—З–µ—А –і–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –і–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б–њ–µ–≤–∞—П –њ–Њ–і –µ—С –Њ–Ї–љ–Њ–Љ —Н—В—Г –њ—А–Є–±–∞—Г—В–Ї—Г.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –±–µ–і–љ–∞—П —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞ —Б —А–∞—Б—И–∞—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є
–љ–µ—А–≤–∞–Љ–Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ, —Г–≥–Њ–Љ–∞–љ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є –ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Б–њ–∞—В—М, –Љ—Л –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ї –µ—С
–Њ–Ї–љ—Г
–љ–Є—В–Њ—З–Ї—Г —Б –Ї–∞–Љ—Г—И–Ї–Њ–Љ –Є —В–Є—Е–Њ—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ —Б—В–µ–Ї–ї—Г –Ї–∞–Љ—Г—И–Ї–Њ–Љ. –Э—Г —З—В–Њ
–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ? –Ъ–∞–Љ—Г—И–µ–Ї-—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є. –Х–≥–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ —Б–ї—Л—И–љ–Њ. –Э–Њ –±–µ–і–љ–∞—П
—Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–і–љ–µ–Љ –Є –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞—Б –Ј–∞—Б—В–∞—В—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ
–њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Э–∞–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М. –Э–Є—В–Њ—З–Ї–∞-—В–Њ –і–ї–Є–љ–љ–∞—П. –Ь—Л –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П –љ–Њ—З—М. –Э–µ
–≤–Є–і–љ–Њ –љ–Є –Ј–≥–Є, —В–µ–Љ–µ–љ—М. –§–Њ–љ–∞—А–µ–є-—В–Њ
—В–Њ–≥–і–∞
–љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–Э–∞—И–Є —Б–∞–і–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –Ю—В—З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ
–њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ? –Ю—В—З–∞—Б—В–Є –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є, –љ–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—В –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П
–њ–Њ–љ—П—В–Є–є
–Њ –і–Њ–±—А–µ –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ. –Э–∞—И–Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П.
–†–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ
–±—Л–ї–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—Г–≥, - –Ј–∞ –і–µ–љ—М –Њ–љ–Є —В–∞–Ї —Г—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ, —З—В–Њ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –і–Њ
–љ–∞—Б.
–Ц–Є–ї–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–∞—П –±–∞–±–Ї–∞. –Ь—Л –Ј–≤–∞–ї–Є –µ—С
–Т–∞—Б—С–Ї, –Є–±–Њ –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї –Њ–±–Њ–ґ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—В–∞ –Т–∞—Б—М–Ї—Г, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л
–њ—А–Њ—Б–Є–і–µ—В—М
–љ–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–љ–Ї–µ, –ї—Г—Й–∞ —Б–µ–Љ–µ—З–Ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М —А—П–і–Њ–Љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Ж–∞. –Р
–Ї–Њ—В
–µ—С –±—Л–ї –±–ї—Г–і–ї–Є–≤ –Є –љ–µ –ї—О–±–Є–ї —Б–Є–і–µ—В—М –і–Њ–Љ–∞. –Ю–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ —А—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б–∞–і–∞–Љ,
–њ–Њ–і–≤–∞–ї–∞–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–∞–Љ –Є —Б–≤–∞–ї–Ї–∞–Љ, –Ї—А–Є—З–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ: "–Т–∞—Б—С–Ї, –Т–∞—Б—С–Ї,
–Т–∞—Б—С–Ї!
–Ъ—Г–і–∞ —В—Л –Ј–∞–њ—А–Њ–њ–∞—Б—В–Є–ї—Б—П? –Т–∞—Б—С–Ї, –Є–і–Є –і–Њ–Љ–Њ–є, —П —В–µ–±–µ –Љ–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞
–љ–∞–ї—М—О".
–Э–Њ –Т–∞—Б—С–Ї –±–Њ–ї—М—И–µ –ї—О–±–Є–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –ї—О–±–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–Њ—И–∞—З—М–Є
–њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –і–µ—А—П—Б—М —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ—В–∞–Љ–Є –Ј–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–і —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ, —З–µ–Љ —Б–≤–Њ—О —Е–Њ–Ј—П–є–Ї—Г.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ–µ "–Т–∞—Б—С–Ї" —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Г, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ
–њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П,
—Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ —Г—В—А–∞ –Є –і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞.
–Т–∞—Б—С–Ї —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–Є, –≥–і–µ –Њ–љ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї
—З–µ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤–Ї—Г—Б–љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–±–Є–ї –њ–Њ–Њ—Е–Њ—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ–±—М—С–≤. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г
—Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М –Ј–∞–Ј–µ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤–Њ—А–Њ–±—М—П, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ–і–Ї–Њ. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞
–њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—А–Њ–љ. –Т–∞—Б—С–Ї –љ–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –≤–Њ–ґ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –љ–∞–њ–∞–і–∞—В—М
–Њ–њ–∞—Б–∞–ї—Б—П. –Э–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї—Б—П –љ–∞–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –≤–Њ—А–Њ–љ. –Т–∞—Б—М–Ї—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М
—Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М –≤–Њ—А–Њ–љ—Г –Ј–∞ –Ї—А—Л–ї–Њ. –Ґ–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞ –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–є –≥–≤–∞–ї—В. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –љ–∞
–Т–∞—Б—М–Ї–∞
—Б–њ–Є–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –і—А—Г–≥–∞—П –≤–Њ—А–Њ–љ–∞. –Ю–љ–∞ –≤—Ж–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г –≤ –Ј–∞–≥—А–Є–≤–Њ–Ї –Є —Б—В–∞–ї–∞ –±–Є—В—М –Т–∞—Б—М–Ї–∞
–Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є –Є –Ї–ї–µ–≤–∞—В—М –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Т–∞—Б—С–Ї –Њ—В–Њ—А–Њ–њ–µ–ї –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–≥–ї–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї
—Б–≤–Њ—О
–ґ–µ—А—В–≤—Г –Є –њ–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±–Њ–Ї. –Т–Њ—А–Њ–љ–∞ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ –Т–∞—Б—М–Ї–∞, –Є —В–Њ—В –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞—Г—В—С–Ї. –°
—В–µ—Е –њ–Њ—А –Т–∞—Б—С–Ї —Б—В–∞–ї –њ–Њ–±–∞–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ—А–Њ–љ, –љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Њ—Е–Њ—В–Є—В—М—Б—П –љ–∞
–≤–Њ—А–Њ–±—М—С–≤.
 –£ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –°–ї–∞–≤–Є–Ї–∞ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –Ї–Њ—В –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є
–Ц–Љ—Г—А–Ї–∞.
–£ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –°–ї–∞–≤–Є–Ї–∞ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –Ї–Њ—В –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є
–Ц–Љ—Г—А–Ї–∞.
–°–ї–∞–≤–Є–Ї
–Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ–µ–µ—З–Ї–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±–∞—А–∞–Ї–∞.
–Я–Њ–њ–∞–ї –Њ–љ –Ї –љ–µ–Љ—Г –µ—Й—С —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –Ї–Њ—В—С–љ–Њ—З–Ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ—В—С–љ–Њ–Ї
–ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ –Љ—П—Г–Ї–∞–ї –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –ґ–Љ—Г—А–Є–ї—Б—П –њ—А–Є —П—А–Ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є
–Ц–Љ—Г—А–Ї–∞. –Я–Њ–і—А–Њ—Б –Ц–Љ—Г—А–Ї–∞ –Є —Б—В–∞–ї –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ –Ї–Њ—В–Њ–Љ. –С—Л–ї –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –ї–µ–љ–Є–≤. –Ь—Л—И–µ–є –Њ–љ –љ–µ
–ї—О–±–Є–ї –ї–Њ–≤–Є—В—М, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї –Є–Љ —Б–њ—Г—Б–Ї—Г, –µ—Б–ї–Є –≤ –њ–Њ–ї–µ –µ–≥–Њ –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М
–Љ—Л—И—М. –Э–Њ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–љ –ї–µ–љ–Є–≤–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ —Б–∞–і–Є–Ї–µ –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –љ–∞ —В—А–∞–≤–Ї–µ, –ґ–Љ—Г—А–Є–ї—Б—П,
–≥–ї—П–і—П –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М –љ–∞–і–Њ–µ–і–ї–Є–≤—Л—Е –Љ—Г—Е. –Ю–љ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ –Љ–∞—Е–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є
–ї–∞–њ–Њ–є
–љ–∞ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—О—Й–Є—Е –Љ—Г—Е, –љ–Њ —В–µ –±—Л–ї–Є —Г–≤—С—А—В–ї–Є–≤—Л –Є –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ц–Љ—Г—А–Ї–∞
–Ј–ї–Є–ї—Б—П,
–Ј–ї–Њ–±–љ–Њ –Љ—П—Г–Ї–∞–ї –Њ—В –љ–µ—Г–і–∞—З–Є, –љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ
–ї–µ–љ–Є–≤–Њ
–љ–µ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–ї–љ—Л—И–Ї–µ, –Ј–µ–≤–∞–ї, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ—О –Ј—Г–±–∞—Б—В—Г—О –њ–∞—Б—В—М, –Є —Б–ї–∞–і–Ї–Њ
–њ–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–ї—Б—П, –≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞—П—Б—М –≤ —Б—В—А—Г–љ–Ї—Г.
–Э–Њ —Н—В—Г –Є–і–Є–ї–ї–Є—О —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї –Ї–Њ—В –Т–∞—Б—С–Ї. –Ю–љ –±—Л–ї
–њ–Њ–Ї—А—Г–њ–љ–µ–µ
–Ц–Љ—Г—А–Ї–Є –Є –њ–Њ–љ–∞—Е–∞–ї—М–љ–µ–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–і –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –°–ї–∞–≤–Є–Ї–∞ –±—Л–ї –љ–µ –µ–≥–Њ
—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є, –Т–∞—Б—С–Ї –љ–∞–≥–ї–Њ –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–∞–і, –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –Ц–Љ—Г—А–Ї–µ, —В–Њ—В –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї,
–≤—Л–≥–Є–±–∞—П —Б–њ–Є–љ—Г –і—Г–≥–Њ–є, —И–Є–њ–µ–ї –љ–∞ –Т–∞—Б—М–Ї–∞, –љ–Њ –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г –њ—П—В–Є–ї—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ
–Ј–љ–∞–ї,
—З—В–Њ —Б –Т–∞—Б—М–Ї–Њ–Љ —И—Г—В–Ї–Є –њ–ї–Њ—Е–Є. –Х—Б–ї–Є –Ц–Љ—Г—А–Ї–∞ –љ–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–ї, —В–Њ –Т–∞—Б—С–Ї –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П
–≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Є —Ж–∞—А–∞–њ–∞–ї –Ц–Љ—Г—А–Ї—Г –њ–Њ –Љ–Њ—А–і–µ
—В–∞–Ї,
—З—В–Њ —Г —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Ї—А–Њ–≤—М –љ–∞ –љ–Њ—Б—Г, –Є–ї–Є —Г—Е–µ.
–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Г –Ц–Љ—Г—А–Ї–Є —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ
—Б–∞–і–Є–Ї—Г –Ї–∞—В–∞–ї—Б—П –Є—Б—В–Њ—И–љ–Њ –≤–Є–Ј–ґ–∞—Й–Є–є –Ї–ї—Г–±–Њ–Ї –Є–Ј –і–≤—Г—Е —Б—Ж–µ–њ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї–Њ—В–Њ–≤. –ѓ—А–Њ—Б—В–Є
—Н—В–Њ–є
—Б—Е–≤–∞—В–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –Т –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –ї–µ—В–µ–ї–Є –Ї–ї–Њ—З—М—П –≤—Л–і—А–∞–љ–љ–Њ–є —И–µ—А—Б—В–Є –Є –≤—Л—А–≤–∞–љ–љ—Л—Е
—Б
–Ї–Њ—А–љ–µ–Љ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤. –Э–Њ —Б–Є–ї—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ —А–∞–≤–љ—Л. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Ц–Љ—Г—А–Ї–∞
–Љ–Њ–ї–љ–Є–µ–є –љ—Л—А—П–ї –њ–Њ–і –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ, –Њ—Й–µ—В–Є–љ–Є–≤–∞—П—Б—М –Є —И–Є–њ—П –Њ—В—В—Г–і–∞ –љ–∞ –Њ–±–Є–і—З–Є–Ї–∞. –Т–∞—Б—С–Ї,
–Ј–ї–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ—Г—А—З–∞–≤, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ц–Љ—Г—А–Ї—Г –њ–Њ–і –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ–Љ –љ–µ –Њ—В–≤–∞–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П. –Я–Њ—Е–Њ–і–Є–≤
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є —Г –Ї—А—Л–ї—М—Ж–∞, –Т–∞—Б—С–Ї —Б –≤–Є–і–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ
–Ї–Њ—И–∞—З—М–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –і–∞–ї–µ–µ. –Ц–Љ—Г—А–Ї–∞ –µ—Й—С –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Є–і–µ–ї –њ–Њ–і –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ–Љ, –Ј–∞–ї–Є–Ј—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ–Є
—А–∞–љ—Л.
–Э–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —Г–ї–Є—Ж–µ —Г –љ–∞—Б –ґ–Є–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –∞–љ–Њ–Љ–∞–ї–Є—П: —Н—В–Њ –±—Л–ї
–Ґ–Њ–ї—П-–У–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Я–∞—А–љ—О –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М, –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Љ, –Љ–µ–ї—О–Ј–≥–µ. –С—Л–ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ
–Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ-–±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞, —З—В–Њ –Є –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ.
–Я–∞—А–µ–љ—М —Е–Њ–і–Є–ї –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –і–≤–Њ—А–∞–Љ –Є —А—Г–≥–∞–ї—Б—П —Н–Ї—Б–њ—А–Њ–Љ—В–Њ–Љ –Љ–∞—В–Њ–Љ –≤ —А–Є—Д–Љ—Г,
–і–∞
—В–∞–Ї —Б–Ї–ї–∞–і–љ–Њ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ–Њ–Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї –±—Л —Б–∞–Љ –С–∞—А–Ї–Њ–≤. –С—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ —Б
—Н—В–Њ–є
–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –љ–µ –≤—Б—С –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –љ–Њ –љ–∞—Б —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–±–∞–≤–ї—П–ї–Њ. –Ь—Л, —А–∞–Ј–≤–µ—Б–Є–≤ —Г—И–Є,
—Б–ї—Г—И–∞–ї–Є
–µ–≥–Њ –≤ —В—А–Є —Г—Е–∞, –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—П—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–Њ–Љ, –љ–Њ –Є —Б—В—А–Њ–є–љ–Њ—Б—В—М—О —А–Є—Д–Љ—Л –Є
—Б–ї–Њ–≥–∞.
–≠—В–Њ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Њ - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Є–Ј—К—П—Б–љ—П–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Ј–Њ–є, –∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є,
—Е–Њ—В—М –Є
–Љ–∞—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є. –£—Б–ї—Л—И–∞—В—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ. –Т—Б—С —Н—В–Њ
–і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М —Б —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Њ–є. –Э–∞–і –љ–Є–Љ –≤—Б–µ –њ–Њ—В–µ—И–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Є
–Є–Ј–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М:
- –Э—Г, —В—Л,
–У–Њ–ї–Њ–≤–∞
–°–∞–і–Њ–≤–∞—П! –І—В–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–∞—В–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М?
–Ю–љ –Њ–±–Є–ґ–∞–ї—Б—П,
—Е–≤–∞—В–∞–ї –Ї–Є—А–њ–Є—З –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї, –љ–∞ –њ–Њ—В–µ—Е—Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–Љ, –±–µ–≥–∞—В—М —Б –Ї–Є—А–њ–Є—З–Њ–Љ –Ј–∞
–Њ–±–Є–і—З–Є–Ї–Њ–Љ.
–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ґ–Њ–ї—П-–У–Њ–ї–Њ–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –≤ –Э–Ш–Ш –Я—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–є
–§–Є–Ј–Є–Ї–Є. –ѓ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Њ—В–і–µ–ї–Њ–≤ –њ–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–Є–Ї–µ, –∞ –Њ–љ –≤
—В–∞–Ї–µ–ї–∞–ґ–љ–Њ–Љ
–Њ—В–і–µ–ї–µ –њ–Њ –њ–µ—А–µ—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞–љ–Є—О —В—П–ґ–µ—Б—В–µ–є. –°–≤–Њ–є –Є—Б–Ї—А–Њ–Љ—С—В–љ—Л–є "—В–∞–ї–∞–љ—В" –Њ–љ –љ–µ
—А–∞—Б—В–µ—А—П–ї. –І–∞—Б—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —Б–Є–і—П—Й–Є–Љ –љ–∞ –ї–∞–≤–Њ—З–Ї–µ —В–∞–Ї–µ–ї–∞–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б
–њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б–Њ–є –≤ –Ј—Г–±–∞—Е. –Ш —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Н—В–Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ –Ј—Г–±—Л –Њ–љ —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Њ–є, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ
–Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, –Љ–∞—В–µ—А–Є–ї—Б—П –≤ —А–Є—Д–Љ—Г –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –љ–µ
–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ
–Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є, –∞ —Б–∞–Љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —Н–Ї—Б–њ—А–Њ–Љ—В. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М —Б –Љ–∞—В–Њ–Љ –≤ —А–Є—Д–Љ—Г
—Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ—О—О
–њ–Њ–≥–Њ–і—Г, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —В–µ–Ї—Г—Й–Є—Е –і–µ–ї –њ–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –µ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ
—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞,
–Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –і—А—Г–≥–∞. –Ш —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і
–љ–∞
—Б–Њ–±—Л—В–Є–µ.
–Э–Њ –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ "–њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П".
–Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ –Њ–љ "—Б–∞–і–Є–ї—Б—П" –љ–∞ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –Є
–і—А—Г–Ј–µ–є. –Э–∞–±–Є—А–∞–ї –љ–Њ–Љ–µ—А —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –µ–≥–Њ
"–њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—В—М"
–≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –і—Г—Е–µ. –Ф–µ–ї–∞–ї –Њ–љ —Н—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ –Є —Б —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ
–љ–Є–Ї—В–Њ
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Є –љ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Т—Б–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –Ј–∞ —З–µ—Б—В—М, –µ—Б–ї–Є
–Ґ–Њ–ї—П-–У–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Г–і–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ "–њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ". –Х–≥–Њ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є –Є
–≤—Л–і—Г–Љ–Ї–µ,
–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞.
–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 90-—Л—Е, –≤ –Ґ–µ—А–ї–µ—Ж–Ї–Њ–є –і—Г–±—А–∞–≤–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П
–≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ
—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Є–Ї, –Ј–∞—А–Њ—Б—И–Є–є –±–Њ—А–Њ–і–Њ–є. –Ю–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ–∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ–≥–Њ
—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Є–±–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ–Є
—А–Є—Д–Љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є
—И—Г—В–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–±–∞—Г—В–Ї–∞–Љ–Є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —П –µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ–ї —Г –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤—Л—Е –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–Њ–≤, —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ
—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–Љ —Г –≤—Е–Њ–і–∞. –Я—А–Є–±–∞—Г—В–Њ–Ї –Њ–љ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Є–Ј–Љ—Л—И–ї—П–ї. –Ю–љ —Б—В–Њ—П–ї –љ–µ —Б
–њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є,
–љ–Њ –µ–Љ—Г –ї—О–і–Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є —В–Њ –Љ–µ–ї–Њ—З—М, —В–Њ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј –µ–і—Л. –Ю–љ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ –Є —Б
–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б—С –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –Љ–Њ–ї—З–∞, –љ–Є–Ј–Ї–Њ –Ї–ї–∞–љ—П—П—Б—М. –Я—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –≤ –љ—С–Љ
–Ґ–Њ–ї—О-–У–Њ–ї–Њ–≤—Г
–Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ.
–С—Л–ї –≤ –љ–∞—И–µ–Љ
–і–µ—В—Б—В–≤–µ –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –Љ–∞—В–µ—А—И–Є–љ–љ–Є–Ї, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Г–ґ–µ –±–µ–Ј–і–∞—А–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ј–∞. –Ю–љ —З–µ—А–µ–Ј
–Ї–∞–ґ–і–Њ–µ
—Б–ї–Њ–≤–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ–ґ–µ –Љ–∞—В–µ—А–љ–Њ–µ
—А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –≤—С–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ
—Б–∞–Љ—Л—Е –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–∞—Е. –°–ї—Г—И–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤ –±—Л–ї–Њ
–љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ.
–Ш–≥—А—Л –Є
–Ј–∞–±–∞–≤—Л
–Ш–≥—А –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М: –≤—Б–µ—Е –Ј–∞ –і–µ–љ—М –љ–µ
–њ–µ—А–µ–Є–≥—А–∞–µ—И—М. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ "–Ї–Њ–Ј–ї–∞". –Ъ–∞—А—В—Л —В—Г—В –љ–µ –њ—А–Є—З—С–Љ. –Я—А–Њ—Б—В–Њ
"–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ"
—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—Б, –Њ—З–µ—А—В–Є–≤ —Б–Ј–∞–і–Є —Б–µ–±—П —З–µ—А—В—Г. "–Ъ–Њ–Ј—С–ї" —Б—В–Њ—П–ї,
—Б–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є—Б—М
–≤ —В—А–Є –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є, –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–Њ–≥–Є, –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Є–Ј-–њ–Њ–і
–љ–Њ–≥, –Ї–∞–Ї —Б —А–∞–Ј–±–µ–≥—Г –Њ—В —З–µ—А—В—Л –њ—А—Л–≥–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –Њ–љ —Б–∞–Љ
–љ–µ–і–Њ—Г–Љ–Ї–Є.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є–Ј –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–Ї–Њ–≤ –Њ—В—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–ї –љ–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–Њ–≥–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А—Л–ґ–Ї–∞, —З–µ—А—В—Г, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О "–Ї–Њ–Ј—С–ї" –Є
–њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П.
–Ш –≤—Б–µ –њ—А—Л–≥–∞–ї–Є —Б–љ–Њ–≤–∞. –Э–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Њ—В —З–µ—А—В—Л –і–Њ "–Ї–Њ–Ј–ї–∞"
—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–љ—Г—В—М
—З–µ—А–µ–Ј "–Ї–Њ–Ј–ї–∞",
–Є —Б–±–Є–≤–∞–ї –µ–≥–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–∞–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П "–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ", –Є –≤—Б—С –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –і–∞–ї–µ–µ
—Б
—Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞.
–Ґ—А—Г–і–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є "–Ї–Њ–Ј–ї–∞" –±—Л–ї–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ–≥ –Ј–∞
–њ—А—Л–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є. –Э–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М
–Ј–∞
—З–µ—А—В—Г –њ—А—Л–≥–∞—О—Й–µ–Љ—Г. –Э–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є, –і–Њ–Ї–∞–ґ–Є, —З—В–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ. –Э–Њ, –µ—Б–ї–Є
–і–Њ–Ї–∞–ґ–µ—И—М, —В–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л–ї —Б—В–∞—В—М —Б–∞–Љ "–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ". –Я—А—Л–≥–∞—О—Й–Є–µ
—Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М
–Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–ї–Є–ґ–µ —З–Є—А–Ї–љ—Г—В—М –љ–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–Њ–≥–Є –њ–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–ї—С—В–∞ —З–µ—А–µ–Ј
"–Ї–Њ–Ј–ї–∞",
—З—В–Њ–±—Л —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–Њ "–Ї–Њ–Ј–ї–∞" —А–Њ—Б–ї–Њ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–µ–µ. "–Ъ–Њ–Ј—С–ї" –Њ—В —З–µ—А—В—Л –≤—Б—С
–±–Њ–ї–µ–µ
–Њ—В–і–∞–ї—П–ї—Б—П –Є –Њ—В–і–∞–ї—П–ї—Б—П. –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П
–њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–љ—Г—В—М "–Ї–Њ–Ј–ї–∞",
—В–Њ –Њ–љ –≤—Л–±—Л–≤–∞–ї –Є–Ј –Є–≥—А—Л.
–Э–Њ –±—Л–ї–Є —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—Б —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М
–ї–∞—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є
–њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—В—М –Њ—В —З–µ—А—В—Л –і–Њ "–Ї–Њ–Ј–ї–∞" –Є
–њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ, –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—П –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ
–Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ.
–Ш–≥—А–∞ –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤. –Ы–Њ–≤–Ї–∞—З–Є —З–Є—А–Ї–∞–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї—О –љ–Њ–≥–Њ–є –њ–Њ
—Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–∞–Љ, –∞ "–Ї–Њ–Ј—С–ї" –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –Њ—И–Є–±–Є—В—М—Б—П. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
–Љ–Њ–≥–ї–Є
–њ—А–Њ–ї–µ—В–µ—В—М –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –Љ–µ—В—А–∞ —З–µ—В—Л—А–µ. –°–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ, –љ–Њ
–Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ –Є–≥—А–∞—В—М –≤ "–Ї–Њ–Ј–ї–∞", —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–њ–Њ–Є–≥—А–∞—В—М –≤
—З–µ—Е–∞—А–і—Г. –°—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—З–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М. –Ґ–Њ—В, –љ–∞
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—З–Ї–∞, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї —Б–∞—А–∞—О, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–≤ –Є
—Г–њ–Є—А–∞—П—Б—М –≤ —Б–∞—А–∞–є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б —А–∞–Ј–±–µ–≥—Г –Ј–∞–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–∞ —Б–њ–Є–љ—Г.
–Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Ї—Г—З–∞ —А–Њ—Б–ї–∞. –Т—Б–µ—Е –Ј–∞–њ—А—Л–≥–љ—Г–≤—И–Є—Е –≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –љ–∞
—Б–≤–Њ–Є—Е –љ–Њ–≥–∞—Е. –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –љ–∞ –Ї—Г—З—Г, –љ–Њ —Г–њ–∞–ї —Б –љ–µ—С, —В–Њ –Њ–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П
–≤–Њ–і—П—Й–Є–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є –Ј–∞–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—В—М –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї—Г—З–∞
—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М
–і–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, –∞ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А—Л–≥–∞—О—Й–Є—Е –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–∞–ї–Њ—Б—М. –Ч–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ
–≤—Б—С —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–њ—А—Л–≥–љ—Г—В—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, –Є –Њ–љ –њ–∞–і–∞–ї –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О.
–Ґ–Њ–≥–і–∞
–Њ–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З–µ—Е–∞—А–і—Л.
–Я–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –Є–≥—А–Њ–є –љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –±—Л–ї –њ—А–Є—Б—В–µ–љ–Њ—З–µ–Ї –Є —А–∞—Б—И–Є–±–∞–ї–Ї–∞.
–£
–≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б –≤ –љ–∞—И–Є—Е –і—Л—А—П–≤—Л—Е –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є. –Ь—Л –Є—Е –Є–ї–Є
–≤—Л–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є —Г —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Є–ї–Є, —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ–Є
–њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є
–І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–Є –Є –Я–µ—А–Њ–≤–Њ, –Є–Ј–Њ–±–Є–ї—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є, —Б –њ–∞–ї–µ—Ж, —Й–µ–ї—П–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–µ—А–µ—Б–Њ—Е—И–Є–Љ–Є
–і–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є, –Ї—Г–і–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М. –≠—В–Њ –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї.
–•–Њ–і–Є–ї–Є
—З–∞—Б–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А –Ј–µ–Љ–ї–Є –њ–Њ–і –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–Њ–є.
–Т –њ—А–Є—Б—В–µ–љ–Њ—З–µ–Ї –Є–≥—А–∞–ї–Є —Г –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л, –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї–∞—П
–љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М, –≥–і–µ –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Є–≥—А–Њ–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї –ї–Њ–≤–Ї–Њ —Г–і–∞—А–Є—В—М –њ–Њ —Б—В–µ–љ–Ї–µ —В–Њ—А—Ж–Њ–Љ
–Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є,
—З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ—В—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ –Њ—В –љ–µ—С –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Т—В–Њ—А–Њ–є –Є–≥—А–Њ–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Њ–є
–њ–Њ–њ–∞—Б—В—М —В–∞–Ї –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ї –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є–≥—А–Њ–Ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є
—А–∞—Б—В–Њ–њ—Л—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –њ—А–Є–ґ–∞—В—М –µ—С –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Њ–є.
–Ю—В
—Н—В–Њ–є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—В—П–ґ–Ї–Є –њ–∞–ї—М—Ж—Л —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—В—В–Њ–њ—Л—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ
–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є, - —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї —Н—В—Г –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї—Г
—Б–µ–±–µ.
–Т —А–∞—Б—И–Є–±–∞–ї–Њ—З–Ї—Г –Є–≥—А–∞–ї–Є, –Ї–ї–∞–і—П —Б–≤–Њ–Є –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є —Б—В–Њ–њ–Њ—З–Ї–Њ–є –љ–∞
—З–µ—А—В–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Њ—В —Н—В–Њ–є —З–µ—А—В—Л –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞ –њ—П—В—М, —И–µ—Б—В—М –Є –Њ—В—З–µ—А—З–Є–≤–∞–ї–Є
–≤—В–Њ—А—Г—О
—З–µ—А—В—Г, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –±–Є—В—Л –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–µ—В,
–Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–Є—Е
–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ, –Є–ї–Є –Ї—А—Г–≥–ї—П—И–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї–µ.
–Ґ–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–∞–ї–Њ–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ. –°–≤–∞–ї–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј
–Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –љ–∞ —В–Њ–Ї–∞—А–љ—Л—Е –Є —Д—А–µ–Ј–µ—А–љ—Л—Е
—Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е.
–Ґ–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–∞–ї–Њ–Ї –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М: –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ —В–Њ–Ї–∞—А–µ–є –Є —Д—А–µ–Ј–µ—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤
–±–Њ–ї—М—И–µ,
—З–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –°—В—А—Г–ґ–Ї–Є –Њ—В —Н—В–Є—Е —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —П–і–Њ–≤–Є—В–Њ-—Б–Є–љ–µ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞,
—В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і —А–µ–Ј—Ж–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–Ї–∞–ї—С–љ–љ—Л–Љ–Є. –≠—В–Є —Б—В—А—Г–ґ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–≤–Є—В—Л –≤
–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ-–њ—А–µ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –≥–Є—А–ї—П–љ–і—Л. –Ю–љ–Є –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –љ–∞
–Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ–∞—Е, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–≤–∞–ї–Ї–µ. –У–Њ—А—Л —Н—В–Є—Е
—Б—В—А—Г–ґ–µ–Ї
–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—А–Њ–є –і–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П —В—А—С—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞.
–Т–Њ—В –Є–Ј-–њ–Њ–і —Н—В–Є—Е —Б—В—А—Г–ґ–µ–Ї –Є –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є –Љ—Л –±–Є—В—Л –≤ –≤–Є–і–µ
–Ї—А—Г–≥–ї—П—И–µ–Ї
–і–ї—П –Є–≥—А—Л –≤ —А–∞—Б—И–Є–±–∞–ї–Ї—Г. –Ю—В –≤—В–Њ—А–Њ–є —З–µ—А—В—Л –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—А–Њ—Б–Є—В—М —А–∞—Б—И–Є–±–∞–ї–Ї—Г —В–∞–Ї,
—З—В–Њ–±—Л
–Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–ї–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О —З–µ—А—В—Г. –Х—Б–ї–Є –љ–µ
–і–Њ–±—А–Њ—Б–Є–ї,
—В–Њ —В–≤–Њ—П –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞ –Є —В—Л –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Є–≥—А—Л.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Є—В—М –±–Є—В—Г —З–µ—А–µ–Ј
—З–µ—А—В—Г, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –±–Є—В–Њ–є –љ–∞ —З–µ—А—В—Г, –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ
–њ–µ—А–≤—Л–Љ —А–∞—Б—И–Є–±–∞—В—М —Б—В–Њ–њ–Ї—Г –Љ–Њ–љ–µ—В, –∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –±–Є—В–Њ–є —З—Г—В—М –і–∞–ї–µ–µ, - –≤—В–Њ—А—Л–Љ
—Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Є–≥—А–µ. –Ю—Б–Њ–±–Њ–є —Г–і–∞—З–µ–є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Є—В–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б—В–Њ–њ–Ї—Г –Є
–њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ –≤—Б–µ —А–µ—И—С—В–Ї–Њ–є –≤–≤–µ—А—Е, –љ–∞ –Њ—А–ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є
—Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –±—А–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ, –Є –Њ–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ —А–∞—Б—И–Є–±–∞—В—М
—Б—В–Њ–њ–Ї—Г,
—Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Љ–Њ–љ–µ—В–Ї–Є –љ–∞ –Њ—А–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –±–Є—В–Њ–є. –Х—Б–ї–Є –µ–Љ—Г —Н—В–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ
–Њ–љ
–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –ї–Є—Е–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В, —В–Њ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –Є–≥—А—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є
–±—А–Њ—Б–Є–ї
—Б–≤–Њ—О –±–Є—В—Г –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —З–µ—А—В–µ —Б–Њ —Б—В–Њ–њ–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–µ—В.
–Э–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –±–Є—В—М –Љ–Њ–љ–µ—В—Л –±–Є—В–Њ–є "–њ–Њ–і —Б–µ–±—П", –Є–±–Њ —Н—В–Њ
–і–∞–≤–∞–ї–Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ, –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є, —Г—Б–ї–µ–і–Є! –Т–Њ—В —В—Г—В –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–Њ—А—Л:
- –Ґ—Л —Г–і–∞—А–Є–ї –њ–Њ–і
—Б–µ–±—П!
- –Э–µ–њ—А–∞–≤–і–∞, —П
—Г–і–∞—А–Є–ї —А–Њ–≤–љ–Њ.
–Э–Њ, —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤—В–Њ—А –љ–µ
–њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М.
–Ю—В—Б—О–і–∞ –Є–≥—А–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –Ї—А–Є–Ї–Є, –∞ –њ–Њ—А–Њ–є –Є –і—А–∞–Ї–Є.
–°–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –Є–≥—А–Њ–є –±—Л–ї —З–Є–ґ–Є–Ї. –С—А–∞–ї–∞—Б—М –њ–∞–ї–Ї–∞,
–Њ–±—Б—В—А—Г–≥–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ —З–µ—В—Л—А—С—Е –≥—А–∞–љ–µ–є, –Ї–Њ–љ—Ж—Л –Ј–∞–Њ—Б—В—А—П–ї–Є—Б—М. –Э–∞ –≥—А–∞–љ—П—Е –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї–Њ—Б—М:
1,
2, 3 –Є –Ї—А–µ—Б—В. –Э–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ї–≤–∞–і—А–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П "–і–Њ–Љ–Њ–Љ", –≤
–µ–≥–Њ
—Ж–µ–љ—В—А —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П —З–Є–ґ–Є–Ї, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–і–∞—А–Є—В—М –ї–∞–њ—В–Њ–є –њ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г
–Ї–Њ–љ—З–Є–Ї—Г.
–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —З–Є–ґ–Є–Ї –≤–Ј–ї–µ—В–∞–ї, –Ї—Г–≤—Л—А–Ї–∞—П—Б—М, –∞ –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –±–Є–ї–Є –ї–∞–њ—В–Њ–є, –Є —З–Є–ґ–Є–Ї –Љ–Њ–≥
–Њ—В–ї–µ—В–µ—В—М –Њ—В "–і–Њ–Љ–∞" –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ.
–Х—Б–ї–Є –Њ–љ –њ–∞–і–∞–ї –µ–і–Є–љ–Є—Ж–µ–є –≤–≤–µ—А—Е, —В–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ
—А–∞–Ј –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –і–∞–ї–µ–µ. –Ю—Б–Њ–±–Њ–є —Г–і–∞—З–µ–є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–Є–ґ–Є–Ї –њ–∞–і–∞–ї –љ–∞ —В—А—С—И–Ї—Г,
—В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –µ—Й—С —В—А–Є —А–∞–Ј–∞ –њ–Њ–і–і–∞–≤–∞–ї—Б—П. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ —З–Є–ґ–Є–Ї –њ–∞–і–∞–ї –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В, —В–Њ –≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є
—Б—А–∞–Ј—Г –Љ–Њ–≥ –±—А–Њ—Б–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ "–і–Њ–Љ", –≤ —З—С–Љ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –Є–≥—А–∞.
–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л —В–∞–Ї –ї–Њ–≤–Ї–Њ —Г–Љ–µ–ї–Є –≤ —Н—В—Г –Є–≥—А—Г –Є–≥—А–∞—В—М,
—З—В–Њ
—З–∞—Б—В–Њ –Є–Љ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞, –Є –Њ–љ–Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Г—О –ґ–µ—А—В–≤—Г –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї–Є
–Ј–∞
—Г–≥–Њ–ї, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є "–і–Њ–Љ–∞"-—В–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ —З–Є–ґ–Є–Ї –љ–∞–і–Њ–µ–і–∞–ї, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–є—В–Є –≤ —Г–±–Њ—А–љ—Г—О. –≠—В–Њ
–±—Л–ї–Њ
–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–µ–±–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —Б–∞—А–∞–є,
—А–∞–Ј–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–є
–љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–ї–≤–Є–љ—Л: –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї—Г—О. –Ъ–∞–ґ–і–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –њ—П—В—М –њ–µ—А—Б–Њ–љ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М,
–Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М
–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –њ–Њ –њ—П—В—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і—Л—А –≤ –њ–Њ–ї—Г. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ —Н—В–Є –і—Л—А—Л
–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–µ—В–Є. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ –Ј–∞ —А–∞–Ј –і–Њ
–і–µ—Б—П—В–Є
–њ–µ—А—Б–Њ–љ –Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Њ. –≠—В–Є—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, - –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ
–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г
–Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –љ–∞ –і–≤–∞ –±–∞—А–∞–Ї–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В —Б–µ–Љ–µ–є. –Ш –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—А–Њ–є,
–±–Њ–ї–µ–µ
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е –Ј–∞–±–∞–≤, —З–µ–Љ —Б–ї—Г—И–∞—В—М –љ–µ–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–љ—Л–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є, —А–∞–Ј–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —Б –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є
–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —Г–±–Њ—А–љ–Њ–є.
–Ь—Л —А–ґ–∞–ї–Є –≤–Њ –≤—Б—О –≥–ї–Њ—В–Ї—Г –љ–∞–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П
–Ј–≤—Г–Ї–∞–Љ–Є,
–Є, —Б–Љ—Г—Й–∞—П —З—Г—В—М –ґ–Є–≤—Л—Е –Њ—В –љ–µ–ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –ґ–µ—А—В–≤,
—Г–ї—О–ї—О–Ї–∞–ї–Є –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤—Б–ї–∞—Б—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ —В–µ, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤ –Є –љ–µ –і–Њ–≤–µ–і—П
–і–Њ
–Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ—С –і–µ–є—Б—В–≤–Њ, –љ–µ –≤—Л–ї–µ—В—П—В –њ—Г–ї–µ–є –Є–Ј –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ч–Є–Љ–Њ–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ —Г–±–Њ—А–љ—Л—Е
–Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–∞–ї–Њ, –Є –Є–Ј —В–Њ–ї—З–Ї–Њ–≤ —А–Њ—Б–ї–Є –Ї—Г—З–Є. –Ш—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л–ї –і–≤–Њ—А–љ–Є–Ї —Б–±–Є–≤–∞—В—М –ї–Њ–Љ–Њ–Љ –Є
–ї–Њ–њ–∞—В–Њ–є, –љ–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–Є–љ –љ–∞ –љ–∞—И—Г —Г–ї–Є—Ж—Г, –Є —З–∞—Б—В–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ї—З–Ї–Њ–Љ
–±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –§–∞–Љ–Є–ї–Є—П —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–Љ–љ—О - –§–Є–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤. –Ь–µ–љ—П –Є–Љ
–≤
—А–∞–љ–љ–µ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ —З–∞—Б—В–Њ –њ—Г–≥–∞–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞:
- –Т–Њ—В –љ–µ
–±—Г–і–µ—И—М
—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П, –Њ—В–і–∞–Љ —В–µ–±—П –§–Є–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤—Г.
–ѓ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ
–Ј–љ–∞–ї
–њ—А–Њ –§–Є–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤–∞. –£–≥—А–Њ–Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –Љ–љ–µ, –Ї–∞—А–∞–њ—Г–Ј—Г, –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–є
—И–∞—А–Є–Ї. –Э—Г, - —Н—В–Њ —П –±—Л–ї —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ. –ѓ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –µ–≥–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М, –Є –Њ–љ —Г
–Љ–µ–љ—П
–≤—Л—А–≤–∞–ї—Б—П, —Г–ї–µ—В–µ–≤ –≤ –љ–µ–±–Њ:
- –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, - –і—Г–Љ–∞–ї —П, - —З–µ–Љ-—В–Њ –µ–≥–Њ —П –Њ–±–Є–і–µ–ї. –Ч–∞—З–µ–Љ –Њ–љ
–≤—Л—А–≤–∞–ї—Б—П? –Т–µ–і—М —П –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї –µ–≥–Њ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л.
–Ш –≤ —Б–ї—С–Ј—Л:
- –Я–Њ–є–і—С–Љ –Ї –§–Є–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤—Г, –≤–µ–і—М —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Б—В—М –і–ї–Є–љ–љ–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞.
–Я—Г—Б—В—М –Њ–љ –і–Њ—Б—В–∞–љ–µ—В —Г–ї–µ—В–µ–≤—И–Є–є –љ–∞ –љ–µ–±–Њ –Љ–Њ–є —И–∞—А–Є–Ї.
–Э–Њ, –≤–µ—А–љ—С–Љ—Б—П –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Ї –Є–≥—А–∞–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ
–≤
–і–µ—В—Б—В–≤–µ. –Т–Њ—В, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –љ–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–±–µ–≥–∞—В—М –њ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—О—Й–Є–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞–Љ
–±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤,
–Є–≥—А–∞—П –≤ –њ—А—П—В–Ї–Є. –Ы–∞–Љ–њ–Њ—З–µ–Ї –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –і–≤–µ—А–Є —Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ
–њ–Њ–Љ–Њ–є–љ–Њ–Љ—Г –≤–µ–і—А—Г, –Ј–∞–њ–∞—Е–Є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–ґ–∞—Б–љ—Г–ї–Є –±—Л –і–∞–ґ–µ –Њ—В–њ–µ—В—Л—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Б—О
—Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–≤–µ–і—И–Є—Е —Г —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–∞—А–∞—И–Є. –Э–Њ –љ–∞—Б —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–ї–Њ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ
–±—Л–ї–Њ
–Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Є—В–∞–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤–µ–і—А–Њ–Љ –Є –±—Л—В—М –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ
–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ, —Б
—И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞–≤—И–Є–Љ –Љ–Є–Љ–Њ —В–µ–±—П –≤ –њ–Њ–ї—Г—В—М–Љ–µ.
–Т –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –±—Л–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ—Л–є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ
–≤
–Ї–Њ–љ—Ж–µ –±–∞—А–∞–Ї–∞ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ—Б—М –њ—Л–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –ї—Г—З–Є–Ї —Б–≤–µ—В–∞ –≤—Б—С –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ
—В—С–Љ–љ–Њ–Љ
—Ж–∞—А—Б—В–≤–µ. –Ш –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ
–њ—А–Є
—Н—В–Њ–Љ –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—С–і—А–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ,
–Є–љ–Њ–≥–і–∞,
–≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤ –≤—Л—И–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Р —В—Л –њ–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Њ–±–ї–Є—В
—Н—В–Є–Љ
—Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–Љ —Б –љ–Њ–≥ –і–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –∞ –Є–Ј –і–≤–µ—А–µ–є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є —А–∞—Б—Б–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–Є
—Н—В–Њ–≥–Њ –±–∞—А–∞–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Є–ї–Є —В–µ–±—П –њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —З–µ–Љ –њ–Њ–њ–∞–і—П, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П —Б–≤–Њ—С –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≤ —Б—В–Њ–ї—М
–Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ—Л—Е
–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е, –Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ,
–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ–µ—В –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г —Б–Њ —Б–љ–µ–і—М—О.
–У–Њ–≥–∞
–Ц–Є–ї –≤ –љ–∞—И–µ–Љ
–і–≤–Њ—А–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М. –Х–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –Ј–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М. –Ь—Л –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ
–Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ.
–С—Л–ї –Њ–љ —Б–ї–∞–±–Њ—Г–Љ–љ—Л–Љ, –њ–Њ-–љ–∞—И–µ–Љ—Г - –і—Г—А–∞—З–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ –і–≤–Њ—А—Г
—Г—Е–Љ—Л–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П
–±–µ–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ—Л. –Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –µ–Љ—Г –њ–∞–ї—М—З–Є–Ї –Є –Ј–∞–≥–љ–Є, - –Њ–љ –Ј–∞—А–ґ–µ—В, –Ї–∞–Ї —Б–Є–≤—Л–є –Љ–µ—А–Є–љ. –Ч–≤–∞–ї–Є
–µ–≥–Њ –У–Њ–≥–∞. –Ю–љ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ —Г—З–Є–ї—Б—П, –љ–Њ –±—Л–ї –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –Љ–∞—В—М –±—Л–ї–∞
–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ
–≤ –љ–∞—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. –Ю–љ–∞ –≤–µ–ї–∞ —Г –љ–∞—Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї.
–Т—Б–µ –Љ—Л –±—Л–ї–Є —И–Ї–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ш–Ј–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Њ–Љ
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Т–µ–і—М –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–є —Г –љ–∞—Б –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –С–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Ј–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –У–Њ–≥–Њ–є. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї
–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ
—Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –і–µ—П–љ–Є—П—Е, —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А:
–Є–≥—А–∞–µ–Љ
–Љ—Л –≤ "–Ї–Њ–Ј–ї–∞". –Я–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В —В—Г—В –ґ–µ
–У–Њ–≥–∞,
—Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Г–ї—Л–±–Њ—З–Ї–Њ–є, –Њ—Й–µ—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є
32
–Ј—Г–±–∞ —Б—А–∞–Ј—Г. –Р –Ј—Г–±—Л —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–µ, –Ї–∞–Ї —Г –Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞. –†–Њ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —Г –љ–µ–≥–Њ,
–Ї–∞–Ї
–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–њ–µ—А—С–і. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–љ –Є—Е –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —З–Є—Б—В–Є–ї, - –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є
–Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ —Г–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є. –Э—Г, —З—В–Њ —Б –і—Г—А–∞–Ї–∞ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С—И—М? –С—Л–ї–Є –Њ–љ–Є —Г –љ–µ–≥–Њ
–Ј–µ–ї—С–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞. –≠—В–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П–ї–Њ!
–Я—А–Њ—Б–Є—В—Б—П –У–Њ–≥–∞ –≤–Ј—П—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–Є–≥—А–∞—В—М —Б –љ–∞–Љ–Є –≤ "–Ї–Њ–Ј–ї–∞".
–Э—Г,
–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ! –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –µ–Љ—Г —Б—В–∞—В—М "–Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ". –°–∞–Љ–Є –Љ—Л
–≤—Б–µ–≥–і–∞
—Б—З–Є—В–∞–µ–Љ—Б—П, –Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В–і—Г–≤–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г. –Р —В—Г—В –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—Д–Є–ї—П, –Њ–љ –Є —В–∞–Ї
—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ –Є –±—Г–і–µ—В –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–і. –Ю—З–µ—А—З–Є–≤–∞–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —З–µ—А—В—Г. –У–Њ–≥–∞, —Б–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ
–і–µ–ї–∞, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤ –њ–Њ–Ј—Г –љ–∞–≥–љ—Г–≤—И–Є—Б—М. –Я–Њ–Ї–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–µ –Њ—В —З–µ—А—В—Л, –≤—Б—С
–Є–і—С—В –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ. –У–Њ–≥–∞ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤: —Б –љ–Є–Љ –Є–≥—А–∞—О—В –љ–∞ —А–∞–≤–љ—Л—Е, —Е–Њ—В—П –Њ–љ —Г–ґ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–є
–Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞. –Х–Љ—Г –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М, –∞ –љ–∞–Љ, –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–Ї–∞–Љ, –њ–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М,
—В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М.
–Э–Њ –≤–Њ—В —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—Б —Б–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–љ–∞ –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ
—В–Њ–ї–Ї–∞–µ—В
–У–Њ–≥—Г –њ–Њ–і –Ј–∞–і –Ї–Њ–ї–µ–љ–Ї–Њ–є. –С–µ–і–љ—Л–є –У–Њ–≥–∞, –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В –≤—Л—В—П–љ—Г—В—М
—А—Г–Ї–Є
–Є –≤—А–µ–Ј–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О –Ј—Г–±–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї —Г–і–Њ–±–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤–њ–µ—А—С–і, —З—В–Њ
–Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л, –њ—А–Є —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ј–µ–Љ–ї–µ—А–Њ–є–љ—Л–є —Н–Ї—Б–Ї–∞–≤–∞—В–Њ—А —Б—А–µ–і–љ–µ–є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є.
–Т—Б—В–∞—С—В
–У–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤ —З—С–Љ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ —Б –Ј–µ–Љ–ї–Є, —А–ґ—С—В –Њ—В —Б—З–∞—Б—В—М—П, —З—В–Њ –Њ–љ –≤ –Є–≥—А–µ, –Є –њ—А–Њ—Б–Є—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –Є–≥—А—Г
–і–∞–ї–µ–µ.
–Ч–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б—А–∞–Ј—Г —Б—Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞—В—М
–њ–Њ
–Љ–Њ—А–і–µ, –љ–Њ —В—Г—В –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –і—Г—А–∞—З–Њ–Ї. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ —А–Є—Б–Ї—Г—П, –њ–Њ–Є–Ј–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П –Є
–і–∞–ї–µ–µ.
–Э–Њ –Љ—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, "–і–ґ–µ–љ—В–ї—М–Љ–µ–љ—Л", –њ—А–Є—В–Њ–Љ –≤—Б–µ —Б—А–∞–Ј—Г. –Ч–∞—З–µ–Љ –≤—Л–і–µ–ї—П—В—М—Б—П?
–†–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Є –±—А–∞—В—Б—В–≤–Њ - –≤–Њ—В –љ–∞—И –і–µ–≤–Є–Ј! –Ш
–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –±—Л—В—М –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ–Ј–ї–Њ–Љ, –і–∞ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –µ—Й—С –Є –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П,
–љ–µ–њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ. –Ь—Л –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –Є –µ–Љ—Г
–њ–Њ–њ—А—Л–≥–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј –љ–∞—Б. –°—З–∞—Б—В—М—О –У–Њ–≥–Є –љ–µ—В –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –Ю–љ, –Њ—Б–Ї–ї–∞–±–Є–≤—И–Є—Б—М –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞
—Б–≤–Њ–Є—Е –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —А–∞–Ј–±–µ–≥–∞–µ—В—Б—П, –њ—А—Л–≥–∞–µ—В, –ї–µ—В–Є—В –Њ—В —З–µ—А—В—Л –њ–Њ
–≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г
–ї–∞—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А, –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П —Г—Е–Љ—Л–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞ –ї–µ—В—Г, –Є –≤–Њ—В –µ–≥–Њ
–ї–∞–і–Њ–љ–Є —Г–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –Њ–њ–µ—А–µ—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–њ–Є–љ—Г "–Ї–Њ–Ј–ї–∞"...
–Э–Њ –љ–µ —В—Г—В-—В–Њ –±—Л–ї–Њ. "–Ъ–Њ–Ј—С–ї" –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –њ—А–Є—Б–µ–і–∞–µ—В, –Є
–У–Њ–≥–∞,
–љ–µ –љ–∞–є–і—П –Њ–њ–Њ—А—Л, —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–≥—А—Л–Ј–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–Љ–Є
–≤–њ–µ—А—С–і
–Ј—Г–±–∞–Љ–Є, –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Й—С –≥–ї—Г–±–ґ–µ, —З–µ–Љ –Љ–Є–љ—Г—В–Њ–є —А–∞–љ–µ–µ. –Я—А–Є
—Н—В–Њ–Љ
–Њ–љ –Ј–∞—Б—В—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Ј—Г–±–∞—Е –≤ –љ–µ–Љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ, –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і,
–Ї–∞—А—В–Є–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б–њ–Є–љ–µ –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б—В–Њ–њ—Л—А–Є–≤ —А—Г–Ї–Є. –Т—Б—В–∞–µ—В, –Њ—В–њ–ї—С–≤—Л–≤–∞—П—Б—М, –Є –љ–µ—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –±–Њ–ї–µ–µ
—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —З–µ–Љ –Њ–љ, –≤–µ–і—М
–µ–Љ—Г
–љ–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ –µ—Й—С —А–∞–Ј, - –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –≤ –Є–≥—А–µ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ
–њ–Њ—З–Є—Б—В–Є–ї–Є—Б—М
–Ј—Г–±—Л: –Њ–љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –Ј–∞–±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є, –±—Г–і—В–Њ
–њ–Њ—Б–ї–µ –Ј—Г–±–љ–Њ–є –њ–∞—Б—В—Л. –Э–µ—В, –љ–µ
"–С–ї–µ–љ–і–∞–Љ–µ–і–∞".
–Ґ–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –µ—Й—С –љ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ–ї–Є. –≠—В–Њ –±—Г–і–µ—В –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А
–±—Г–і–µ—В
—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–љ—З–∞–µ–Љ–Њ–є —А–µ–Ї–ї–∞–Љ—Л –Є –≤—Б—С —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ
"–С–ї–µ–љ–і–∞–Љ–µ–і–∞",
–±—Г–і—М –Њ–љ –љ–µ–ї–∞–і–µ–љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч—Г–±—Л –У–Њ–≥–Є –Ј–∞–±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В
–±–ї–µ—Б—В–µ—В—М –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В—Л –≤ –ї—Г—З–∞—Е
–Ј–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞. –С–ї–µ—Б—В–µ–ї–Є –Њ—В –љ–µ—С, –Њ—В –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є—Ж—Л, –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–Є —В–Њ
–µ—Б—В—М. –І—В–Њ —В—Г—В –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–≥–Њ?
–Ч–∞–±–∞–≤–∞–Љ —Б –У–Њ–≥–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞, –љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ –љ–∞–і–Њ–µ–і–∞–ї–Њ, –≤–µ–і—М
–±—Л–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–∞–±–∞–≤—Л. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –У–Њ–≥–∞ –њ–Њ—И—С–ї –Ї —Б–µ–±–µ –і–Њ–Љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М —Б–≤–Њ—О
–ї—О–±–Є–Љ—Г—О
–њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –Ј–∞–≤–Њ–і–Є–ї –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—С —Б–≤–Њ—С —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ч–∞–≤–Њ–і–Є–ї –µ—С –Њ–љ
—Б–∞–Љ–Њ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ,
—Б —А–≤–µ–љ–Є–µ–Љ. –°–ї—Г—И–∞–ї –Њ–љ –µ—С –њ–Њ–і—А—П–і –њ–Њ–Љ–љ–Њ–≥—Г —А–∞–Ј, –Є–±–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞—П
–њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞—П –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–∞ - –≥–Є–Љ–љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.
–Э–µ—В, –У–Њ–≥–∞ –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –і–µ–±–Є–ї–Њ–Љ, - –Њ–љ —Г–Љ–µ–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —З–Є—В–∞—В—М
–Є
–њ–Є—Б–∞—В—М. –Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –Њ–љ –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –±–µ–Ј–Њ–±–Є–і–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б,
–ґ–Є—В–µ–ї–µ–є
—В–µ—Е –±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤. –Ы–Є—З–љ–Њ —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є–Ј–і–µ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–і –У–Њ–≥–Њ–є. –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ
–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–Љ
—А–µ–±—С–љ–Ї–µ, –Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–µ–Љ –і–Њ–±—А—Л–Љ, –Њ—В–Ј—Л–≤—З–Є–≤—Л–Љ —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –Є –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ
—П—Б–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞.
–Т–Њ–ї–Њ–і—П
–°–∞–Љ–≥–Є–љ
–С—Л–ї–Є –Ј–∞–±–∞–≤—Л
–Є
–±–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –і–Њ–ґ–і–Є–Ї –Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г –љ–Њ—Б–∞ –љ–µ –≤—Л—Б—Г–љ–µ—И—М, –Ї–∞–Ї
–≤—Б–µ–≥–і–∞, —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А—Л–≥–∞—В—М —Б–Њ —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–Ї –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж—Л, –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є
—Н—В–∞–ґ, –љ–∞ –њ–Њ–њ–µ—А–µ—З–љ—Г—О –і–Њ—Б–Ї—Г –њ–Њ–і –≤—Е–Њ–і–љ—Л–Љ
–Њ–Ї–Њ–љ—Ж–µ–Љ, —Е–≤–∞—В–∞—П—Б—М –Ј–∞ –љ–µ—С, –Ї–∞–Ї –Ј–∞ —В—Г—А–љ–Є–Ї. –≠—В–Њ –Ј–∞ –і–Њ—Б–Ї—Г-—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ
–Њ–±—Е–≤–∞—В–Є—И—М, –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Є–≤—И–µ–є. –Я—А—Л–≥–∞–ї–Є –≤—Б—С —Б –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Є
–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–Є. –Э–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї—Г
–≤—Б–µ
–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї–Є –Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї–Є. –Ь–µ—И–∞–ї –≤—Л—Б—В—Г–њ —Б–≤–µ—А—Е—Г. –£–ґ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ
–љ–∞–≥–Є–±–∞—В—М—Б—П, –Є –њ—А—Л–≥–∞—В—М –њ–Њ—З—В–Є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ, –Є–љ–∞—З–µ —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–Є –Ј–∞ –і–Њ—Б–Ї—Г –љ–µ
—Г—Е–≤–∞—В–Є—И—М—Б—П.
–Т—Б–µ —Г–ґ–µ —Б–Њ—И–ї–Є —Б –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–Њ–ї–Њ–і—П –°–∞–Љ–≥–Є–љ, –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –±—А–∞—В –У–Њ–≥–Є, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П
–≤
—Б—В—А–Њ—О.
–С—Л–ї–∞ –Є –љ–µ–≥–Њ –Ї–ї–Є—З–Ї–∞ - –С–µ—И–µ–љ–љ—Л–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞
–і—А–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї –Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ, –љ–µ —Г–Љ–µ–ї. –І—Г—В—М —З—В–Њ, –Њ–љ –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б–≤–Є—А–µ–њ–µ–ї
–љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л–Љ. –Ю–љ —Б—А–∞–Ј—Г —Е–≤–∞—В–∞–ї—Б—П –Ј–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є
–±—Г–ї—Л–ґ–љ–Є–Ї, –Ї–∞–Ї–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ —А–∞–і–Є—Г—Б–µ –µ–≥–Њ –±–µ—И–µ–љ—Б—В–≤–∞. –° —В–∞–Ї–Є–Љ –ї—Г—З—И–µ –љ–µ
—Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П, - –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –ї–Є—З–љ–Њ. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М
—Г–≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Њ—В –±—Г–ї—Л–ґ–љ–Є–Ї–∞, —П —Б–∞–Љ —Б–µ–±–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, –≤–µ–і—М
—Ж–µ–ї–Є–ї
–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і—П –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –С—Л–ї –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є–≤, –Є –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞
—Е–Њ—В–µ–ї –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –љ–∞ —И–µ—Б—В–Њ–є —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–µ –Њ—В–њ—А—Л–≥–∞–ї–Є—Б—М, –Т–Њ–ї–Њ–і—П
—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
- –ѓ —Б–µ–є—З–∞—Б
–њ—А—Л–≥–љ—Г —Б
—Б–µ–і—М–Љ–Њ–є —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–Є.
–Т—Б–µ
–љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–≤–∞–ї–Є.
–≠—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Э–Њ–≥–Є –њ—А—Л–≥–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Л—И–µ –і–Њ—Б–Ї–Є, –Ј–∞
–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є—В—М—Б—П. –Э–Њ –Њ–љ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї. –°–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ —Ж–Є—А–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ—А—Л–ґ–Ї–Є,
–≤–Є–і–µ–љ–љ—Л–µ
–Љ–љ–Њ—О –≤ —Ж–Є—А–Ї–µ, –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –ґ–∞–ї–Ї–Є–Љ –ї–µ–њ–µ—В–Њ–Љ. –Ю–љ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –љ–µ –≤–≤–µ—А—Е,
–Ї–∞–Ї
—Н—В–Њ –≤—Б–µ –Љ—Л –і–µ–ї–∞–ї–Є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –∞ –≤–љ–Є–Ј. –Ш–љ–∞—З–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ—В—М: –Љ–µ—И–∞–ї –≤—Б—С —В–Њ—В
–ґ–µ
–љ–∞–≤–Є—Б–∞—О—Й–Є–є —Б–≤–µ—А—Е—Г –Ї–∞—А–љ–Є–Ј. –†—Г–Ї–Є –њ—А–Є
—Н—В–Њ–Љ,
–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –Ј–∞–і—А–∞–ї –≤–≤–µ—А—Е. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ—Л–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–Љ—Г
—Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ј–∞ —Е–Є–ї—Г—О, —В–Њ–љ–Ї—Г—О –і–Њ—Б–Њ—З–Ї—Г. –Ф–Њ—Б–Ї–∞ –Ј–∞—В—А–µ—Й–∞–ї–∞! –Ш ...
–≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞!
–Ю–љ –Ј–∞–±–Њ–ї—В–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–µ, –љ–Њ —Г—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –љ–µ—С —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–µ–≤.
–Ш
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Б–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П —Б –і–Њ—Б–Ї–Є. –Э–Њ —В–Њ—А–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤—Б—С –ґ–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М.
–Ю–љ
–Њ—В–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –ї—С–≥–Ї–Є–Љ–Є —Г—И–Є–±–∞–Љ–Є. –Т—Б–µ –Љ—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –∞—Е–љ—Г–ї–Є –Њ—В —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є—П.
–Х—Б–ї–Є
–±—Л –і–Њ—Б–Ї–∞ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞, –Њ–љ —А–∞–Ј–±–Є–ї—Б—П –±—Л –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В—М, —Б–ї–Њ–Љ–∞–≤ —Б–µ–±–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Њ—З–љ–Є–Ї. –Э–Њ
–і—Г—А–∞–Ї–Њ–≤ –С–Њ–≥ –±–µ—А–µ–ґ—С—В. –Т—Б—С –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М.
–Р –Т–Њ–ї–Њ–і—П –°–∞–Љ–≥–Є–љ —Б—В–∞–ї –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –љ–∞ —З–∞—Б, –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г
—З—В–Њ
–і–Њ–ґ–і—М –Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П. –Т—Б–µ –≤—Л—Б—Л–њ–∞–ї–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞–њ—А–Њ—З—М –Ј–∞–±—Л–ї–Є –Њ "–≥–µ—А–Њ–µ".
–Р
–≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ-—В–Њ –Њ–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –њ–∞—А–µ–љ—М, –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ
–љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤–∞—В—М. –Э–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ—Г —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—З–µ–Љ –±—Л–ї–Њ
–Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П? –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–і—С–≤–Ї–∞: —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞–і —В–Њ–±–Њ–є, –∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ
–ґ–µ,
–љ–∞–і–Њ –Љ–љ–Њ–є.
–Т–Њ–ї–Њ–і—П –°–∞–Љ–≥–Є–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г—З–Є–ї—Б—П, –±—Л–ї –љ–∞—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є
–≤—С–ї
—Б–µ–±—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.
–Ы—С–≤–Ї–∞-–†—Л–ґ–Є–є
–Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –±–∞—А–∞–Ї–∞ –ґ–Є–ї –Ы—С–≤–∞ –Ь–∞–≤—А–Њ–і–Є–∞–і–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ
–µ–≥–Њ
–Њ—В–µ—Ж —Б–Є–і–µ–ї –≤ —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ. –Х–≥–Њ –Љ–∞—В—М —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ
—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞, —З—В–Њ —П –µ—С –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї. –Ы–µ–≤–∞ –±—Л–ї –µ–≤—А–µ–µ–Љ, –љ–Њ —А–µ–і–Ї–Њ–є –і–ї—П
–µ–≤—А–µ–µ–≤ –Њ–Ї—А–∞—Б–Ї–Є. –Х–≥–Њ —И–µ–≤–µ–ї—О—А–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ —А—Л–ґ–µ–є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –≤—Б–µ –Є –Ј–≤–∞–ї–Є
–†—Л–ґ–Є–Љ.
–С—Л–ї –†—Л–ґ–Є–є –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–Љ, —З—В–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б –µ–≥–Њ
–Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–є —И–µ–≤–µ–ї—О—А–Њ–є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П —Г–ї—Л–±–Ї–∞ –љ–∞–±–µ–Ї—А–µ–љ—М.
–Я–µ—А–µ–Ї–Њ—Б –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –µ–≥–Њ —А–Њ—В
–љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞ —Й–µ–Ї–µ –Њ—В —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Э–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —Г—Е–Љ—Л–ї–Ї–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞, —В–Њ
—А–Њ—В –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї —А–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Р —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –†—Л–ґ–Є–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –≤ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ
–љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є, –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–Љ –Ї —И–Ї–Њ–і–ї–Є–≤–Њ–Љ—Г, —В–Њ –µ–≥–Њ —Г–ї—Л–±–Ї–∞ –љ–∞–±–µ–Ї—А–µ–љ—М –±—Л–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є
–Є
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О.
–Ю–љ –±—Л–ї —Б—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б —Б–∞–Љ—Л–Љ —И–µ–±—Г—В–љ—Л–Љ. –Х—Б–ї–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Г–ґ
—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і–µ–ї–∞—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ, —В–Њ –Ы—С–≤–Ї–∞-–†—Л–ґ–Є–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞–Љ —З–µ–Љ –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П. –Х–≥–Њ
—Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П –±—Л–ї–∞ –±–µ—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–∞. –Ю–љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –Љ–Њ–і—Г.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л. –С—А–∞–ї–∞—Б—М –Є–Љ –Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞
–Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М—П –≥–Є–ї—М–Ј–∞, –≤ –љ–µ—С –Њ–љ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї –Є –≤—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—И–µ–љ—М,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є
–≤–Ј–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –Є–Љ–µ–ї —А–µ–Ј–Є–љ–Ї—Г. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–є
–Ї—Г—А–Њ–Ї –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є, —В–Њ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—А—И–µ–љ—М —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї—П–ї—Б—П –≤–љ—Г—В—А—М –≥–Є–ї—М–Ј—Л —А–µ–Ј–Є–љ–Ї–Њ–є,
–Є
–Є–≥–Њ–ї–Ї–Њ–є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П —В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г, —Г–і–∞—А—П–ї –њ–Њ –Ї–∞–њ—Б—О–ї—О. –†–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П
–Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–≤—Г–Ї —Б –і—Л–Љ–Њ–Љ, –Є–Љ–Є—В–Є—А—Г—О—Й–Є–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –≤—Б—П
–љ–∞—И–∞
—Г–ї–Є—Ж–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –і–µ–ї–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В—Л. –Ь—Л —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Є —И–ї–Є –љ–∞ —А—Л–љ–Њ–Ї,
–≥–і–µ
–њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –њ–∞—З–Ї–∞–Љ–Є —Н—В–Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є –Ї–∞–њ—Б—О–ї–Є.
–Т –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ –ї–Њ—Б–Є–љ–∞—П —И–Ї—Г—А–∞ —Б –Њ—З–µ–љ—М
–і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ
–Љ–µ—Е–Њ–Љ. –Ш–Ј —Н—В–Њ–є —И–Ї—Г—А—Л –†—Л–ґ–Є–є —Б—В–∞–ї –і–µ–ї–∞—В—М —З–µ–Ї–∞–љ–Ї–Є. –Ю—В—А–µ–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї –Њ—В
—И–Ї—Г—А—Л. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –њ–Њ–і –Љ–µ—Е–Њ–Љ, –њ—А–Є—И–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤–∞—П –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж–∞, –∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є –≤–Њ–ї–Њ—Б
–≤–Њ–ї–∞–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ—А—П–Љ–ї—П–ї—Б—П –і–Њ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П
—З–µ–Ї–∞–љ–Ї–∞. –Х—Б–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О —З–µ–Ї–∞–љ–Ї—Г –њ–Њ–і–±—А–Њ—Б–Є—В—М –≤–≤–µ—А—Е, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, —Б–≥–Є–±–∞—П –љ–Њ–≥—Г –≤ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Ї–µ
–њ–Њ–њ–µ—А—С–Ї –Є –≤–љ—Г—В—А—М, —Г–і–∞—А–Є—В—М –њ–Њ —З–µ–Ї–∞–љ–Ї–µ –±–Њ–Ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є –±–Њ—В–Є–љ–Ї–∞, —В–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є—В
–≤–≤–µ—А—Е,
–љ–Њ –њ–∞–і–∞—В—М –±—Г–і–µ—В –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –±—Л—Б—В—А–Њ. –†–∞—Б—В–Њ–њ—Л—А–µ–љ–љ—Л–є –і–ї–Є–љ–љ—Л–є –≤–Њ–ї–Њ—Б —И–Ї—Г—А–Ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—С—В
—Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –њ–∞—А–∞—И—О—В.
–Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ
—А–∞–Ј —Г–і–∞—А—П—В—М –њ–Њ —З–µ–Ї–∞–љ–Ї–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ –њ–∞–і–∞–ї–∞. –Ш–љ—Л–Љ —Н—В–Њ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М
—Б–і–µ–ї–∞—В—М
–і–Њ —Б–Њ—В–љ–Є —А–∞–Ј. –Ъ –†—Л–ґ–µ–Љ—Г —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±—П—В, –њ—А–Њ—Б—П –Њ—В—А–µ–Ј–∞—В—М –Њ—В
—И–Ї—Г—А—Л
–ї–Њ—Б—П –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –љ–∞ —З–µ–Ї–∞–љ–Ї—Г, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В —И–Ї—Г—А—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ,
- –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—Г–њ–Њ–≤–Њ–є —В–∞—А–µ–ї–Ї–Є, - —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ –С–∞–ї—М–Ј–∞–Ї–∞ —Б —И–∞–≥—А–µ–љ–µ–≤–Њ–є
–Ї–Њ–ґ–µ–є. –†—Л–ґ–µ–Љ—Г –≤–ї–µ—В–µ–ї–Њ –Њ—В
–Љ–∞—В–µ—А–Є.
–Т—Б—П –µ–≥–Њ –і–≤–µ—А—М –±—Л–ї–∞ –≤ –і—Л—А–Ї–∞—Е. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–µ—С –Њ–љ –Ї–Є–і–∞–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ
—Б –љ–∞–Љ–Є
–љ–Њ–ґ–Є. –≠—В–∞ —Б—В—А–∞—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є, –≤–µ–і—М –і–≤–µ—А—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ
–Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –±–µ–Ј —Б—В—Г–Ї–∞ –Є —З—Г—В—М –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –њ–Њ–і –љ–Њ–ґ. –Э–Њ,
—Б–ї–∞–≤–∞ –±–Њ–≥—Г, –і–Њ —В—А–∞–≤–Љ, –њ–Њ —З–Є—Б—В–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, –і–µ–ї–Њ –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ, –∞ –Љ–Њ–≥–ї–Њ
–і–Њ–є—В–Є.
–Ъ–∞–Ї —В–µ—А–њ–µ–ї–∞ –≤—Б—С —Н—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В—М, –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Њ–є.
–Я–Њ—В–Њ–Љ –Њ–љ –Є–Ј–Њ–±—А—С–ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–±, –Ї–∞–Ї –і–µ–ї–∞—В—М –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Ї–Є –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ —Б
—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥, - –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Ї—Б–µ—А–Њ–Ї—Б–∞. –≠—В–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Љ –≤ —В–∞–є–љ–µ.
–Ъ
–љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –Њ–љ —Г–і–∞–ї—П–ї—Б—П –Ј–∞ —И–Є—А–Љ—Г, —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Љ –і–µ–ї–∞–ї, –Є —З–µ—А–µ–Ј
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Љ–Є–љ—Г—В –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї –Ї–Њ–њ–Є—О —Н—В–Њ–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, - —Н—В–Њ
—Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Њ –Є –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Њ.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –†—Л–ґ–Є–є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞–і–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ: –Ъ–∞–Ї —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Ї–Є–љ–Њ
–Ј–∞–і–∞—А–Љ–∞? –Ю–љ —Б—В–∞–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –Њ—В–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є –Њ—В –±–Є–ї–µ—В–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Є –±–Є–ї–µ—В—Л –њ–Њ—Б–ї–µ
—Б–µ–∞–љ—Б–Њ–≤. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ —Б–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Є –±–Є–ї–µ—В –Њ—В–≤–∞—А–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є, –њ—А–Њ–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞—П
—Г—В—О–≥–Њ–Љ. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–ї—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –±–Є–ї–µ—В, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –ї—О–±–Њ–є
–Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ. –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—С—А—Л –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ–Њ–і–і–µ–ї–Ї—Г –Ј–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Є–Ї.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –†—Л–ґ–Є–є –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–Є–ї–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–њ–Њ–і—А–∞–Ј–љ–Є—В—М –±–∞–±–Ї—Г –Ы–µ–љ—Г, –і–∞ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—С. –Я–Њ–Є–Ј–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і –і—Г—А–∞—З–Ї–Њ–Љ –У–Њ–≥–Њ–є –Њ–љ
—В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Г–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Т—Б–µ —И—Г–Љ–љ—Л–µ –Є –∞–Ј–∞—А—В–љ—Л–µ –Є–≥—А—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –†—Л–ґ–Є–є. –Ю–љ
–љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ
–Є–≥—А–∞–ї –≤ —Д—Г—В–±–Њ–ї, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е. –С—Л–ї–Њ —Г –љ–∞—Б —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ: –Њ–і–Є–љ
–Є–Ј
–љ–∞—Б —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –±–Є–ї –њ–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ, - –Ї—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–±—М—С—В. –Ґ–∞–Ї
–≤–Њ—В, –†—Л–ґ–µ–≥–Њ –Њ–±—Л–≥—А–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –С–Є–ї –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ –Љ—П—З—Г —Б –ї–µ–≤–Њ–є –љ–Њ–≥–Є,
—З—В–Њ
–і–ї—П —Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤ –≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–љ —Г–Љ–µ–ї –њ–Њ—Б–ї–∞—В—М –Љ—П—З —В–Њ—З–љ–Њ –≤
—Г–≥–Њ–ї, -
–≤–њ—А–Є—В–Є—А–Ї—Г –Ї —И—В–∞–љ–≥–µ. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–∞–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, —В–Њ –Ј–∞–±–Є—В—М –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ
–Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ: –≤—Б–µ –Љ—П—З–Є, –і–∞–ґ–µ –Є–Ј —Г–≥–ї–∞ (—И–µ—Б—В—С—А–Њ—З–Ї–Є), –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є
–≤—Л—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞–ї. –°—А–µ–і–Є –љ–∞—Б –Њ–љ –±—Л–ї –ї—Г—З—И–Є–Љ –Є–≥—А–Њ–Ї–Њ–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, —Н—В–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М.
–Т—Б–µ—Е –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є
–†—Л–ґ–µ–≥–Њ
—Б–µ–є—З–∞—Б —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –љ–Њ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ю–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ
–Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞–ї,
- —Б –љ–Є–Љ –љ–µ —Б–Њ—Б–Ї—Г—З–Є—И—М—Б—П. –†—Л–ґ–Є–є –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є –Њ–љ
–љ–∞–Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞–ї –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л —Г–Ј–љ–∞—В—М, –і–∞ –љ–µ–Њ—В–Ї—Г–і–∞: –≤—Б–µ —А–∞—Б—Б–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –Ї—В–Њ
–Ї—Г–і–∞, –Є –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ.
–ѓ–Љ—Л
–Ю–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–ї–Њ –Љ–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї–Њ–њ–∞—В—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ
—П–Љ—Л.
–Ґ–∞–Ї–Є–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ, —З—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е —Г–ґ–µ –±–µ–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –≤—Л–±—А–∞—В—М—Б—П-—В–Њ –±—Л–ї–Њ
–љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ъ–Њ–њ–∞–ї–Є –Є—Е —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –і–≤–Њ—А–∞. –Я—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–µ,
–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П
–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –љ–∞—И –і–≤–Њ—А –Є –Ї–Њ–њ–∞–ї–Є —П–Љ—Л. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, —А–∞–љ–љ–Є–Љ —Г—В—А–Њ–Љ –љ–∞—Б —А–∞–Ј–±—Г–і–Є–ї–∞
–≥—А–Њ–Љ–Ї–∞—П —А—Г–≥–∞–љ—М –Є –≤–Њ–њ–ї–Є –Є–Ј —П–Љ—Л. –Э–Њ—З—М—О
–Ї—В–Њ-—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Є –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –љ–∞—И—Г —П–Љ—Г. –°—В–∞–ї–Є —П–Љ—Л –Ї–Њ–њ–∞—В—М –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е
–Љ–µ—Б—В–∞—Е. –Ч–∞—З–µ–Љ? –Р –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В? –Я—А–Њ—Б—В–Њ –і—Г—И–∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, —З–µ–≥–Њ
–Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В. –У—А—Г–љ—В —Б–≤–µ—А—Е—Г –±—Л–ї –њ–ї–Њ—В–љ—Л–є, –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–є. –Ф–∞–ї–µ–µ
—И—С–ї –ґ—С–ї—В—Л–є –њ–µ—Б–Њ–Ї —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ—Л–є, —З—В–Њ –≤
–ґ–∞—А–Ї–Њ–µ
–ї–µ—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–њ–∞—В—М –≥–ї—Г–±–ґ–µ –Є –≥–ї—Г–±–ґ–µ.
–Ъ–Њ–њ–∞—О —П, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ, –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–µ–љ–Њ–Ї. –°–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ, —Г–Љ–∞ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–Љ–µ–љ—М—И–µ. –Э–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Ї–Њ–њ–∞—В—М —П–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–љ–Є–Ј. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞–і–Њ –Ї–Њ–њ–∞—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г.
–Э–∞—З–∞–ї –Ї–Њ–њ–∞—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ы—О–±–Њ–Љ—Г –і—Г—А–∞–Ї—Г —П—Б–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –У–Њ–≥–µ, —З—В–Њ –њ–µ—Б–Њ–Ї
–љ–µ
–≥–ї–Є–љ–∞, –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Б–≤–Њ–і–µ –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –°—Л–њ—Г—З –њ–µ—Б–Њ–Ї-—В–Њ. –Э–Њ —П –љ–µ –У–Њ–≥–∞. –ѓ
–љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–љ–µ–µ –У–Њ–≥–Є. –ѓ–Љ–∞-—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й—С –љ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П: –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ —В–∞–Љ —В—А–Є,
—З–µ—В—Л—А–µ
–Љ–µ—В—А–∞ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –Р –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, —В–∞–Ї –Є –≤—Б–µ–≥–Њ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М. –Ґ–∞–Ї –Љ–µ—В—А–∞ –љ–∞ –і–≤–∞, –љ–µ
–±–Њ–ї–µ–µ. –Э–∞–і–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї–Њ–њ–∞—В—М –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ. –Э—Г, —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Љ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —Б—В–∞–ї –њ–∞–і–∞—В—М –њ–µ—Б–Њ–Ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–і–∞. –Я–∞–і–∞–µ—В –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ. –Э–µ
—Б—Л–њ–ї–µ—В—Б—П,
–Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є —Б—В—А—Г–є–Ї–Њ–є, –∞ –њ–∞–і–∞–µ—В –њ–ї–∞—Б—В–∞–Љ–Є. –Э–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–і–∞–µ—В, –њ–Њ
—З—Г—В—М-—З—Г—В—М. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ, –њ–Њ –Ї–Њ—А—Л—В—Г –Ј–∞—А–∞–Ј. –Я—Г—Б—В—П–Ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Э–Є—З–µ–≥–Њ
—Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ.
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Є —Н—В–Њ –≤—Л–≥—А–µ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ–є-—В–Њ –њ—А–Є—В–Њ–Љ–Є–ї—Б—П. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Є –њ–µ—А–µ–і–Њ—Е–љ—Г—В—М. –І–µ–≥–Њ
–Ї–Є—И–Ї—Г-—В–Њ —А–≤–∞—В—М –њ–Њ–љ–∞–њ—А–∞—Б–љ—Г. –Э–µ—З–µ–≥–Њ –ґ–∞–і–љ–Є—З–∞—В—М. –Ґ–∞–Љ, –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г, —В–≤–Њ–Є –і—А—Г–ґ–∞–љ—Л
–ґ–і—Г—В,
–љ–µ –і–Њ–ґ–і—Г—В—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—З–µ—А–µ–і–Є. –Э–∞–і–Њ –Є –Є–Љ –і–∞—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥.
–Т—Л–ї–µ–Ј–∞—О –љ–∞ –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Г—О –≤–Њ–ї—О. –Ґ—Г—В –ґ–µ –і—А—Г–ґ–∞–љ —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О
–ї–µ–Ј–µ—В
–≤ —П–Љ—Г. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –Љ—Л —А–∞–љ—М—И–µ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј
—П–Љ? –£–Љ–∞ –љ–µ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ—Г –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, –∞ –Љ–љ–µ-—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–ґ–µ —Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В. –Э–Њ, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ
–Є–Ј
—П–Љ—Л —А–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є, –∞ –њ—А–Є–≥–ї—Г—И—С–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–њ–ї–Є –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є.
–°–ї—Г—З–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ–±–≤–∞–ї –њ–µ—Б–Ї–∞, —З—В–Њ –і—А—Г–ґ–∞–љ–∞ –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–ї–Њ —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Є –Њ–љ
–≥–ї—Г—Е–Њ
–≤–Њ–њ–Є—В –Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –Њ–±–≤–∞–ї–∞. –°–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ—Б—П —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Б–µ –≤ —П–Љ—Г. –Ы–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ–њ–∞–µ–Љ
–ї–Њ–њ–∞—В–∞–Љ–Є, –≥–Њ—А—Б—В—П–Љ–Є. –Э–Њ —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї–Њ–њ–∞–µ–Љ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—Л–њ–ї–µ—В—Б—П. –Т–Њ—В —Г–ґ–µ –Є
–і—А—Г–ґ–∞–љ
–Є–Ј-–њ–Њ–і –Ј–∞–≤–∞–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М. –Я–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞–ї–Є—Б—М! –Я–Њ–±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –ї–Њ–њ–∞—В—Л. –Ъ–∞–Ї
–±—Л
–љ–∞—Б —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–ї–Њ. –Э–∞–≤–µ—А—Е! –Ъ —Б–Њ–ї–љ—Ж—Г! –Ъ–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г! –Ґ–∞–Ї–Њ–є —З–Є—Б—В—Л–є
–≤–Њ–Ј–і—Г—Е! –Э–µ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —П–Љ–µ. –Ш –љ–Є—З—В–Њ –љ–∞
–≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ —Б—Л–њ–ї–µ—В—Б—П. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М! –Ч–∞—З–µ–Љ —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–њ–∞—В—М —П–Љ—Г? –Т—А–Њ–і–µ –Є –±–µ–Ј —П–Љ—Л —В–Њ–ґ–µ
–љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ.
–Я–Њ–Ј–≤–∞–ї–Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. –Э–∞–і–Њ –±—Л —Б—А–∞–Ј—Г,
–і–∞
—А–∞–Ј–≤–µ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–є–Љ—С—И—М, —З—В–Њ –Ї —З–µ–Љ—Г? –Ф–∞ –Є
–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤-—В–Њ —Г –љ–∞—Б –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –≤–Љ–µ—Б—В–µ, –Ї–∞–Ї —Г –Ї—Г—А–Є—Ж—Л, –њ—А–Є—З—С–Љ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–є.
–Ф—А—Г–ґ–∞–љ–∞,
—З—Г—В—М –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ, –≤—Б—С –ґ–µ –Њ—В–Ї–Њ–њ–∞–ї–Є.
–Ъ–Њ—Б—В—А–Є—И–Ї–Њ –≤
–і–Њ–ґ–і–Є—И–Ї–Њ
–°–љ–Њ–≤–∞
—З—В–Њ-—В–Њ
—Б–Ї—Г—З–љ–Њ–≤–∞—В–Њ.
- –Э–∞–і–Њ –±—Л –Ї–Њ—Б—В—А–Є—И–Ї–Њ —А–∞–Ј–ґ–µ—З—М.
- –Ъ—В–Њ –ґ–µ –ґ–ґ—С—В –Ї–Њ—Б—В—А—Л –љ–∞ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–ї–Є–≤–љ—Л—Е
–і–Њ–ґ–і–µ–є?
–Т–µ–і—М –љ–µ —А–∞–Ј–≥–Њ—А–Є—В—Б—П!
- –Р –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї—Г –Ј–∞–њ–µ—З—С–Љ –≤ –Ј–Њ–ї–µ?
- –†–∞–Ј–Њ–ґ–ґ–µ–Љ –≤ –±–∞—А–∞–Ї–µ.
- –Ф–∞ —В—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–і—Г—А–µ–ї? –†–∞–Ј–ґ–Є–≥–∞—В—М –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ. –°—А–∞–Ј—Г
–љ–∞–Ї—А–Њ—О—В!
- –†–∞–Ј–Њ–ґ–ґ—С–Љ –≤
–њ–Њ–і–≤–∞–ї–µ,
—З—В–Њ–±—Л –≤–Є–і–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
- –Ф–∞ –Љ—Л —З—В–Њ, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ? –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ?
- –Ъ—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П –њ–Њ–ґ–∞—А? –Ь—Л –ґ–µ —А–∞–Ј–Њ–ґ–ґ—С–Љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ
–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Ї–Њ—Б—В—С—А—З–Є–Ї, - –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є.
–†–∞–Ј–Њ–ґ–≥–ї–Є. –І–Њ–є-—В–Њ –Њ–љ –≤–і—А—Г–≥ –љ–Є —Б —В–Њ–≥–Њ, –љ–Є —Б —Б–µ–≥–Њ
—А–∞–Ј–≥–Њ—А–µ–ї—Б—П, –∞
—В—Г—И–Є—В—М-—В–Њ –љ–µ—З–µ–Љ. –Т–Њ–і—Л –љ–µ—В –љ–Є –Ї–∞–њ–ї–Є! –Э–∞–і–Њ –ґ–µ, –љ–µ–Ј–∞–і–∞—З–∞. –С–µ–ґ–Є–Љ –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ
–Њ—В—Б—О–і–∞,
–њ–Њ–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є –љ–µ —Б–≥–Њ—А–µ–ї–Є. –Ю–±–≥–Њ—А–µ–ї —Г–≥–Њ–ї –±–∞—А–∞–Ї–∞. –Х–ї–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—В—Г—И–Є—В—М
–≤–µ–і—А–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Ї–∞ —Б –≤–Њ–і–Њ–є —А—П–і–Њ–Љ, - –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е —В–Њ
–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Њ—В –±–∞—А–∞–Ї–∞. –Э–µ—В, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –њ–Њ–±–Њ–ї–µ. –Ф–∞, —В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–±–Њ–ї–µ. –Ь–µ—В—А–Њ–≤
—Н–і–∞–Ї
–љ–∞ –і–≤–µ—Б—В–Є.
–Ш—И—М, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ –±–∞–±—Л –±–µ–≥—Г—В –Њ—В –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Ї–Є —Б –≤—С–і—А–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є –≤—Б—С –њ—А–Њ—Б—В–Њ.
–Ч–≤–Њ–љ–Є—И—М
01 –Є –±–∞—Б—В–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є—И—М, - —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э–µ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –∞
–≤
–љ–∞—И–µ–є –Њ–Ї—А—Г–≥–µ. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ—В—Ж—Л –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ, –∞ —В–Њ –±—Л –±—Л—В—М –љ–∞–Љ –њ–Њ—А–Њ—В—Л–Љ–Є –њ–Њ
–≤—Б–µ–Љ
–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ: —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–µ–Љ–љ—П–Љ–Є. –Р —В—Г—В –Љ–∞–Љ–∞–љ–Є: –њ–Њ—И–ї—С–њ–∞–ї–Є –і—Г—А–∞–ї–µ–µ–≤ –њ–Њ
–Ј–∞–і–љ–Є—Ж–∞–Љ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —В–∞–Љ –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ–Љ, –Є –≤—Б—С. –Ы–µ–≥–Ї–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М. –Э—Г, —В–µ–њ–µ—А—М-—В–Њ
—В–Њ—З–љ–Њ
—Г–Љ–Є—И–Ї–∞ –њ–Њ–і–љ–∞–±—А–∞–ї–Є—Б—М. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —И–∞–ї–Њ—Б—В–µ–є.
–Х—Б–ї–Є –≤–Њ—В
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Б–ї–∞–Ј–Є–Љ –љ–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤ –Њ–Ї—А—Г–≥–µ —Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї—Г, –Є –≤—Б—С. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –µ—С –Ј–Њ–≤—Г—В
—Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Њ–є? –Т–µ–і—М –≤ –љ–µ–є –≤—Б–µ–≥–Њ —И–µ—Б—В—М —Н—В–∞–ґ–µ–є. –Э—Г, –Љ—Л —Б –љ–µ—С –њ—А—Л–≥–∞—В—М –љ–µ
—Б–Њ–±–Є—А–∞–µ–Љ—Б—П,
- –Є—Й–Є—В–µ –і—Г—А–∞–Ї–Њ–≤. –Ь—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —Б–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–ґ–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ, —Б–±—А–Њ—Б–Є–Љ
–Ї–Њ—И–Ї—Г.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ—И–Ї—Г. –°–∞–Љ–Є –Љ—Л –њ—А—Л–≥–∞—В—М –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ.
–°–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є. –Э–∞–і–Њ –ґ–µ, –Ї–Њ—И–Ї–∞ —Г–њ–∞–ї–∞ —Б —Н—В–Њ–є —И–µ—Б—В–Є—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–є
—Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –ї–∞–њ—Л. –Ґ—М—Д—Г —В—Л, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ–µ–Љ, —Е–Њ—В—П –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –ґ–Є–≤—С–Љ
—Б
—Н—В–Њ–є —И–µ—Б—В–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Њ–є —А—П–і–Њ–Љ, –∞ –≤—Б—С
–љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ
–µ—С —Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Њ–є. –Э–Њ, –Ї—А—Л—И–∞ —Н—В–Њ–є —И–µ—Б—В–Є—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А—Г—В–∞.
–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –±—Л–ї–Њ —Б –љ–µ—С —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ —Б–Ї–∞—В—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ –≤—Б–µ–є
–Њ–Ї—А—Г–≥–µ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –і–Њ–Љ–∞. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–є —Г –Ї—А—Л—И–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ч–∞—З–µ–Љ
–Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П? –Т–µ–і—М –і–≤–µ—А–Є –љ–∞ —З–µ—А–і–∞–Ї –Є –љ–∞ –Ї—А—Л—И—Г –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є, –Є –љ–∞ –Ї—А—Л—И—Г –љ–Є–Ї—В–Њ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥.
–Э–Њ —Н—В–Є
–њ—А–µ–≥—А–∞–і—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ –і–ї—П –љ–∞—Б, —Г–і–∞–ї—М—Ж–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А—Г–і –±—Л–ї –њ–Њ
–Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ, –љ–Њ –Є —Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М
—И–µ—Б—В–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–∞, –±—Л–ї–∞ –љ–µ –≤—Л—И–µ
—Б–∞—А–∞–µ–≤,
—Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л –≥–Њ–љ—П–ї–Є –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є. –Э–µ—В, —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –≤—Л—И–µ. –Х—Б–ї–Є –≤–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Њ–і–Є–љ
—Н—В–∞–ґ,
–і—А—Г–≥–Њ–є. –Э—Г, –Њ—В —Б–Є–ї—Л –љ–∞ —В—А–Є —Н—В–∞–ґ–∞. –Э–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –≤—Л—И–µ —З–µ—В—Л—А—С—Е. –Э—Г, –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ
—Б–ї—Г—З–∞–µ, –њ–Њ–≤—Л—И–µ –љ–∞ –њ—П—В—М —Н—В–∞–ґ–µ–є. –Ф–∞ –Є —В–Њ, –≤—А—П–і –ї–Є. –Ш–љ–∞—З–µ —Б —З–µ–≥–Њ –±—Л —Н—В–Њ –љ–∞—И
–і—А—Г–ґ–∞–љ
–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї—Б—П –Є –њ–Њ—З—В–Є —Г–њ–∞–ї —Б –Ї—А—Л—И–Є.
–Х–ї–µ
–Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –Ї–∞—А–љ–Є–Ј. –•–Њ—В–µ–ї –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—И–Ї—Г —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П? –≠—В–Њ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ!
–І–µ–≥–Њ —В—Г—В –љ–µ –њ–Њ–љ—П—В—М? –Ш —Б–ї–µ–њ–Њ–Љ—Г —Б –Ї—А–∞—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–Є–і–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З—И–µ. –Ч–∞—З–µ–Љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М
—Б –Ї–Њ–љ—М–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б—С –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ
—Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б –Ї—А–∞—П. –Ш —Г–≤–Є–і–µ–ї... –Х–ї–µ –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї–Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і—А—Г–ґ–∞–љ–∞ —Б
–Ї–∞—А–љ–Є–Ј–∞.
–°–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–∞.
–§–Њ—В–Њ 2009 –≥–Њ–і–∞.
–Р —В–∞–Ї
–≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –Љ—Л —А–µ–±—П—В–∞ —В–Є—Е–Є–µ. –Ъ–Њ—И–Ї—Г –і–∞–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ–±–Є–і–Є–Љ, –љ—Г —А–∞–Ј–≤–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Њ—З–µ–љ—М
—А–µ–і–Ї–Њ –љ–∞–Љ–∞–ґ–µ–Љ –µ–є –њ–Њ–і —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ —Б–Ї–Є–њ–Є–і–∞—А–Њ–Љ, –њ—А–Є–≤—П–ґ–µ–Љ –њ—Г—Б—В—Г—О –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–љ—Г—О –±–∞–љ–Ї—Г –Ї
–µ—С
—Е–≤–Њ—Б—В—Г –љ–∞ –≤–µ—А—С–≤–Ї–µ, –і–∞ –њ—Г—Б—В–Є–Љ –њ–Њ –і–≤–Њ—А–∞–Љ. –Т–Њ—В —Б–Љ–µ—Е—Г-—В–Њ. –Ъ–Њ—И–Ї–µ –ґ–ґ—С—В —Б–Ї–Є–њ–Є–і–∞—А
–њ–Њ–і
—Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–≥–љ–∞—В—М –Љ–∞—И–Є–љ—Г. –Э–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ–±–≥–Њ–љ—П–µ—В, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї
–Љ–∞—И–Є–љ—Л –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М. –Ч–≤–Њ–љ –Њ—В –њ—Г—Б—В–Њ–є –±–∞–љ–Ї–Є —Б—В–Њ–Є—В —В–∞–Ї–Њ–є, —З—В–Њ
–њ—А–Њ—Б–љ—С—В—Б—П –Љ—С—А—В–≤—Л–є –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, –љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞–µ—В—Б—П. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П—В—М—Б—П
–Љ–µ—А—В–≤–µ—Ж—Г –љ–∞ –љ–∞—И–µ–Љ —В–Є—Е–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ. –£ –љ–∞—Б –ґ–µ –љ–µ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ. –Э—Г, –Љ—Л —З—В–Њ, —Б–∞–і–Є—Б—В—Л,
—З—В–Њ
–ї–Є? –†–∞–Ј–≤–µ –Љ—Л –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –±–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –і–ї–Є–љ–љ—Г—О –≤–µ—А—С–≤–Ї—Г? –Ф–ї–Є–љ–љ–∞—П –≤–µ—А—С–≤–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В
–Ј–∞–њ—Г—В–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е –Є –±–µ–і–љ–∞—П –Ї–Њ—И–Ї–∞ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј–ї–Є—В—М –≤—Б—О –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И—Г—О—Б—П —Г –љ–µ–є
—Н–љ–µ—А–≥–Є—О. –Ь—Л –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї—Г—О. –°–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—В—М –ґ–µ –љ–∞–і–Њ! –Ф–∞ –Є –Ї–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞–Љ
—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –≤–Є–і–µ—В—М –Ј–∞–њ—Г—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –Ї—Г—Б—В–∞—Е
–Ї–Њ—И–Ї—Г? –Я—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Є –Є—Б—В–Њ—И–љ–Њ –Њ—А—Г—Й—Г—О. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ.
–Ъ–Њ—И–Ї–Є –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –љ–∞–і–Њ–µ–і–∞—О—В –±—Л—Б—В—А–Њ. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ
–і–µ–ї–Њ
—Б–Њ–±–∞–Ї–Є. –С–µ–Ј–і–Њ–Љ–љ—Г—О —Б–Њ–±–∞–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Љ–∞–љ–Є—В—М –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–љ—М—И–µ —Б–Њ–±–∞–Ї–Є
–љ–∞
–њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–µ, –њ–Њ–≤–µ—Б–Є—В—М –µ—С –Ј–∞ —И–µ—О –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤–Њ –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Е—А–Є–њ–Є—В –Є
–Є–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П.
–Я—А–∞–≤–і–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ, –љ–µ –≥–љ–Є–ї—Л–µ –≤–µ—А—С–≤–Ї–Є –≤ —В–µ –і–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М, –Є —Б–Њ–±–∞–Ї–Є —З–∞—Б—В–Њ
–Њ–±—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ш –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ
–Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї–Є, —В–Њ –Љ—Л –Є—Е —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ—И–∞–ї–Є. –Э–µ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–µ—И–∞–ї–Є, –∞ —Н–і–∞–Ї –Љ–Є–љ—Г—В –љ–∞ –њ—П—В—М, –і–µ—Б—П—В—М. –Ь—Л —З—В–Њ,
—Б–∞–і–Є—Б—В—Л? –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—С—В –і—С—А–≥–∞—В—М—Б—П, –Љ—Л –µ—С —Б –њ–µ—В–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Є
—Б–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ. –≠—В–Њ –ґ–µ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –≤–Є—Б—П—Й—Г—О —Б–Њ–±–∞–Ї—Г, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –љ–µ
–і—С—А–≥–∞–µ—В—Б—П
–Є –љ–µ —Е—А–Є–њ–Є—В. –Ь—Л –љ–µ —Б–∞–і–Є—Б—В—Л, –Љ—Л —Б–Њ–±–∞–Ї—Г –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ґ–∞–ї–µ–ї–Є.
–Ь—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–±–∞–Ї, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ—Б—В—М —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞, –љ–µ –≤–µ—И–∞–ї–Є.
–Ч–∞—З–µ–Љ
–Є—Е –≤–µ—И–∞—В—М? –Х—Б–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–≤—П–Ј–Є –Є —Б—В–µ—А–µ–ґ—С—В —Б–∞–і –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–є —В–∞–Љ
—И–њ–∞–љ—Л, –Љ—Л –µ—С –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–µ—И–∞–ї–Є. –Ь—Л –µ–є –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Ї—Г—Б–Њ–Ї —Б–∞–Љ–Њ–є –і–µ—И—С–≤–Њ–є
–ї–Є–≤–µ—А–љ–Њ–є
–Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л, –Є –≤–µ—З–љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –њ—А–Њ–≥–ї–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –µ—С, –љ–µ —А–∞–Ј–ґ—С–≤—Л–≤–∞—П, –њ—А—П–Љ–Њ —Б
–ї–µ—В—Г.
–Ъ–Њ–ї–±–∞—Б–∞ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї–∞ —Г–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, —В–∞–Ї —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –ґ–∞–ґ–і–∞–ї–∞ –µ—С. –Ш –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Н—В–Њ–є
—Б–Њ–±–∞–Ї–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–µ —Н—В–Њ–є –±—Л–ї–Њ –Є —П–і—Г-—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б –њ–Њ–ї —З–∞–є–љ–Њ–є
–ї–Њ–ґ–Ї–Є.
–Ф–Ф–Ґ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —П–і, - –і–ї—П –Њ–њ—А—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В —А–∞–Ј–љ—Л—Е —В–∞–Љ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е
–≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є.
–Э–µ—В, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ —П–і—Г –±—Л–ї–Њ —З—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ–±–Њ–ї–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ–ї —З–∞–є–љ–Њ–є
–ї–Њ–ґ–Ї–Є.
–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Ж–µ–ї–∞—П –ї–Њ–ґ–Ї–∞. –Ш –і–∞–ґ–µ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–∞—П. –Ґ–Њ—З–љ–Њ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–∞—П. –Ь–Њ–ґ–µ—В –і–∞–ґ–µ –і–≤–µ
—Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е. –І—В–Њ, —П–і—Г —З—В–Њ –ї–Є –±—Л–ї–Њ –ґ–∞–ї–Ї–Њ? –Ю–љ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Г–≥–ї—Г –≤–∞–ї—П–ї—Б—П –Љ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є. –Э—Г, –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –±—Л –љ–∞
–Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ
—Г–≥–ї—Г. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ –љ–Є–Љ –µ–Ј–і–Є—В—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ - –њ–∞—А—Г –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –љ–∞
—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–µ.
–Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–∞–ґ–µ –Є —З–µ—В—Л—А–µ. –Ґ–Њ—З–љ–Њ, - –њ—П—В—М –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –±—Л–ї–Њ. –Ф–Њ —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–∞. –Р —В–∞–Љ –µ–≥–Њ
—Е–Њ—В—М
–ї–Њ–ґ–Ї–∞–Љ–Є –µ—И—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ –љ–∞–Љ –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Є–Љ –µ—Б—В—М? –Ь—Л –і–ї—П —Б–Њ–±–∞—З–µ–Ї –±—А–∞–ї–Є. –Ч–∞—В–Њ
–њ–Њ—В–Њ–Љ
–≤—Б–µ —П–±–ї–Њ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞—И–Є. –Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —П–±–ї–Њ–Ї–Є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Є –≥—А—Г—И–Є. –≠—В–Њ —Г–ґ–µ
–і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–µ—Б.
–Э–µ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —В–∞–Љ –Ї–Є—Б–ї—Л–µ –≤–Є—И–љ–Є –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б–ї–∞–і–Ї–Є–µ —Б–ї–Є–≤—Л, –∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —Б–Њ—З–љ—Л–µ
–≥—А—Г—И–Є.
–Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –Є—Е –Њ–±—К–µ—И—М—Б—П, –і—А—Г–ґ–∞–љ–Њ–≤, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –љ–∞–ї—С—В,
—Г–≥–Њ—Б—В–Є—И—М.
–Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –Љ—Л –Ї–Њ—И–µ–Ї –Є —Б–Њ–±–∞–Ї –ї—О–±–Є–ї–Є. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї–Є,
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –∞ –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –љ–∞
–≤—Б–µ
—А—Г–Ї–Є. –Э–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є, –∞ –љ–µ –њ–Њ –љ–∞—В—Г—А–µ. –Я–Њ –љ–∞—В—Г—А–µ –Љ—Л –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –њ–∞–Є–љ—М–Ї–Є. –Э–µ
–≤–µ—А–Є—В–µ? –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г—И–∞–є—В–µ.
–†—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї–Њ–є –ґ–Є–ї–∞ –Т–∞–ї—П –Э–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Т–Њ—В –Њ–љ–∞
–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї—О–±–Є–ї–∞ –Ї–Њ—И–µ–Ї –Є —Б–Њ–±–∞–Ї. –Ц–Є–ї–∞ —Г –љ–µ—С –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —В–∞–Ї–∞—П —Б–Њ–±–∞—З–Ї–∞,
–ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–∞—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і–≤–Њ—А–љ—П–ґ–Ї–∞.
–Я–Њ—А–Њ–і–Є—Б—В—Л—Е
—Б–Њ–±–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Њ–≤—З–∞—А–Њ–Ї. –Э–Њ –Ї—В–Њ
–Є–Ј
–љ–∞—Б –±—Г–і–µ—В –ї—О–±–Є—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Њ–≤—З–∞—А–Њ–Ї? –†–∞–Ј–≤–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –У–Њ–≥–∞. –Т–µ–і—М –Њ–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ
–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –Њ–≤—З–∞—А–Ї–Є —В–∞–Ї –і–Њ—Б–∞–ґ–і–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є–Љ –Њ—В—Ж–∞–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л —Б
—Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±–∞–Ї –Љ—Л –≤—Б–µ—Е –ї—О–±–Є–ї–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є
–Њ–≤—З–∞—А–Ї–∞–Љ–Є.
–Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј —Г –Т–∞–ї–Є –Є –±—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–≤–Њ—А–љ—П–ґ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ –ї—О–±–Є—В—М –±—Л–ї–Њ
–љ–µ–ї—М–Ј—П.
–Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В. –°–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ —Г —Н—В–Њ–є –≤–∞–ї–Є–љ–Њ–є –і–≤–Њ—А–љ—П–ґ–Ї–Є
—Г–Љ–µ—А–ї–Є
–≤—Б–µ —Й–µ–љ—П—В–∞ –њ—А–Є –љ–µ—Г–і–∞—З–љ—Л—Е —А–Њ–і–∞—Е. –°–Њ–±–∞—З–Ї–∞ –Ј–∞–≥—А—Г—Б—В–Є–ї–∞, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –µ—Б—В—М, –ґ–∞–ї–Њ–±–љ–Њ
—Б–Ї—Г–ї–Є–ї–∞ –Є –ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і—Г, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–Є—Й–Є.
–Ш –≤–і—А—Г–≥ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ. –£ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б —Г–Љ–µ—А–ї–∞
–Ї–Њ—И–Ї–∞
–≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П —Б–Є—А–Њ—В–Њ–Ї –Ї–Њ—В—П—В –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї —Б—Г–і—М–±—Л.
–Ъ–Њ—В—П—В–∞–Љ
–≥—А–Њ–Ј–Є–ї–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї—М - –Њ–љ–Є –µ—Й—С –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –µ—Б—В—М, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞.
–Э–Њ
–≥–і–µ –≤–Ј—П—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ, –µ—Б–ї–Є –Є—Е –Љ–∞—В—М-–Ї–Њ—И–Ї–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞?
–Ґ—Г—В, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Б–∞–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –Ї–Њ—В—П—В–∞–Љ –љ–∞
–≤—Л—А—Г—З–Ї—Г.
–Э–∞—И–ї–Є—Б—М –і–Њ–±—А—Л–µ –ї—О–і–Є –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–µ–±—П—З—М–µ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є
—В–Њ—Б–Ї—Г—О—Й–µ–є
—Б–Њ–±–∞—З–Ї–µ, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤—Б–µ –µ—С —Й–µ–љ—П—В–∞, –Ї–Њ—В—П—В, –њ–Њ–≥–Є–±–∞—О—Й–Є—Е –±–µ–Ј —Б–≤–Њ–µ–є
—Г–Љ–µ—А—И–µ–є
–Љ–∞—В–µ—А–Є-–Ї–Њ—И–Ї–Є.
–Ш –Њ, —З—Г–і–Њ! –°–Њ–±–∞–Ї–∞ –Т–∞–ї–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –Ї–Њ—В—П—В, –Њ–±–ї–Є–Ј–∞–ї–∞ –Є—Е –≤—Б–µ—Е –Є
–њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –љ–∞–±—Г—Е—И–Є–µ —Б–Њ—Б–Ї–Є –Ї–Њ—В—П—В–∞–Љ. –Ъ–Њ—В—П—В–∞ —Б—В–∞–ї–Є –ґ–∞–і–љ–Њ —Б–Њ—Б–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ
—Б–≤–Њ–µ–є
–њ—А–Є—С–Љ–љ–Њ–є –Љ–∞–Љ—Л-—Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Є –≤—Л–ґ–Є–ї–Є. –Ь—Л —З–∞—Б—В–Њ –љ–∞–≤–µ—Й–∞–ї–Є –Є—Е, –ї—О–±—Г—П—Б—М, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ—В—П—В–∞
–ї–∞–Ј–Є–ї–Є
–њ–Њ –Т–∞–ї–Є–љ–Њ–є —Б–Њ–±–∞—З–Ї–µ, –±–ї–∞–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –Ї—Г—Б–∞–ї–Є –µ—С –Ј–∞ —Г—Е–Њ, –љ–Њ—Б,
—Ж–∞—А–∞–њ–∞–ї–Є—Б—М, –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–Ї–Њ—П –µ–є –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –љ–Њ —Б–Њ–±–∞—З–Ї–∞ –≤—Б—С —Н—В–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ
—В–µ—А–њ–µ–ї–∞.
–Ь—Л —Г–Љ–Є–ї—П–ї–Є—Б—М —Н—В–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–Њ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –±–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –њ—А—Г–і –±–Є—В—М –ї—П–≥—Г—И–µ–Ї –њ–Є–Ї–∞–Љ–Є,
–љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—П—Б—М –Є—Е –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О.
–І—В–Њ —Б –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М? –Ь—Л –±—Л–ї–Є —И–∞–ї–Њ–њ–∞—П–Љ–Є –Є
–±–µ–Ј–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.
–У–Њ–ї—Г–±–Є
–Ш, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ
–ґ–µ,
–≥–Њ–ї—Г–±–Є. –С–µ–Ј –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –µ—Б—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є,
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–±—Л–ї–Њ –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ –њ—В–Є—З–Є–є —А—Л–љ–Њ–Ї –Є –Ї—Г–њ–Є—В—М —В–∞–Љ –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є. –Т–∞–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ
–Њ—И–Є–±–Є—В—М—Б—П –Є –љ–µ –Ї—Г–њ–Є—В—М –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–µ–љ, —З—В–Њ–±—Л
–Њ–љ–Є
—З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і –Ї
—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г
—Е–Њ–Ј—П–Є–љ—Г. –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В—М –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—Л –ї–Є—З–љ–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, -
–і–∞–ї—М–љ–Є—Е. –°–≤–Њ–µ–є –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–Є —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —Е–Њ—В—П –Њ—З–µ–љ—М
—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Є–Љ–µ—В—М. –Ш –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б—С —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —П –Њ—И–Є–≤–∞–ї—Б—П —Г –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–µ–љ –і—А—Г–Ј–µ–є,
—З—В–Њ –±—Л–ї–Є "–њ–Њ–±–Њ–≥–∞—З–µ". –Я–Њ–±–Њ–≥–∞—З–µ –љ–∞ –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –ґ–Є–ї–∞ –Њ–і–љ–∞ –≥–Њ–ї—Л—В—М–±–∞.
–Ю, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–Є –і–∞–≤–∞–ї —В–µ–±–µ –≤
—А—Г–Ї–Є –≥–Њ–ї—Г–±—П –Є —В—Л –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М, –љ–Њ –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ
–і–∞–ї–µ–Ї–Њ, - –≤–µ–і—М –≥–Њ–ї—Г–±—М –Љ–Њ–≥ –Є –љ–µ –љ–∞–є—В–Є –Њ–±—А–∞—В–љ—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г. –Ш —В—Л –≤—Л–Ї–Є–і—Л–≤–∞–ї –≤ –љ–µ–±–Њ
–µ–≥–Њ, –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–њ–µ—А–≤–∞ –њ–Њ–њ–Њ–Є–≤ –Є–Ј–Њ —А—В–∞ —Б–ї—О–љ–Њ–є. –Ч–∞—З–µ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–ї—Г–±—О
–ї–µ—В–µ—В—М –∞–ґ –њ–Њ—З—В–Є –і–≤–µ—Б—В–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–Њ –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–Є, –Є–ї–Є –љ–µ—В, —В—А–Є—Б—В–∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ
–Є,
—В—А—Г–і–љ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, - –≤—Б–µ –њ—П—В—М—Б–Њ—В –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Є –љ–µ –±—Л—В—М
–љ–∞–њ–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ?
–Ґ—Л —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —В—Г—В –ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –±–µ–≥–Њ–Љ –±–µ–ґ–∞–ї –µ–Љ—Г –≤—Б–ї–µ–і
–Є —Б
–≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ. –•–Њ—В—П –Є —В–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, -
–≥–Њ–ї—Г–±—М-—В–Њ
—Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ї—А—Л—И–µ.
–У–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–µ–є
–±—Л–ї–Њ
–Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Т—Б–µ –Љ—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ—А–Њ–і–∞—Е. –І–Є–≥—А–∞—И–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ
—Ж–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М.
–Ч–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є. –Ч–∞—В–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї–Є –Є–ї–Є –њ–∞–ї–µ–≤—Л–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є –±—Л–ї–Є –≤ —Ж–µ–љ–µ.
–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Ж–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ–ї—Г–±–Є. –Ю–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –і–ї–Є–љ–љ—Г—О —И–µ—О. –Э–∞ –љ–Њ—Б—Г —Г
–љ–Є—Е
–±—Л–ї–Є –љ–∞—А–Њ—Б—В—Л. –І–µ–Љ –љ–∞—А–Њ—Б—В—Л –±–Њ–ї—М—И–µ –Є –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ —И–µ—П, —В–µ–Љ –Ї—А—Г—З–µ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –≥–Њ–ї—Г–±—М.
–Я–Њ—З—В–∞—А–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–Є–Ї–∞. –Ш—Е —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞,
–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В—Л –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–≤–Њ–Є —Б—В–∞–Є –љ–µ –≥–Њ–љ—П–ї–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–∞—А—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є—В—М –≤ —Б–≤–Њ—О –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ—О —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞–Є, –њ—А–Є–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –Њ–≤—Б—П–љ–Ї–Њ–є,
–Є–ї–Є
–µ—Й—С –ї—Г—З—И–µ –Ї–Њ–љ–Њ–њ–ї–µ–є, –Є –љ–∞–Ї—А—Л—В—М –≥—А–Њ—Е–Њ—В–Њ–Љ, –і—С—А–љ—Г–≤ –Ј–∞ –≤–µ—А—С–≤–Ї—Г. –Р –≥–Њ–ї—Г–±–Є —Н—В–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞ "–њ—В–Є—З—М–µ–Љ" –Њ—З–µ–љ—М
–і–Њ—А–Њ–≥–Є.
–Я–Њ—З—В–∞—А–Є
–ї–µ—В–∞—В—М –≤
—Б—В–∞–µ —Б —З–Є–≥—А–∞—И–∞–Љ–Є –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є, - —Г –љ–Є—Е –Є–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М. –Ю–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О
–Љ–∞—Б—Б—Г,
–њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –≥–Њ–ї—Г–±—П–Љ–Є, –Є –ї–µ—В–∞–ї–Є —Б –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О. –®–µ—П —Г
–љ–Є—Е
–±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П –і–ї–Є–љ–љ–∞—П, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –ї–µ—В–µ–ї–Є, —В–Њ –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–њ—Г—В–∞—В—М —Б
–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ
–ї–µ—В—П—Й–Є–Љ–Є —Г—В–Ї–∞–Љ–Є, –Є–Ј-–Ј–∞ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —И–µ–Є.
–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –њ–Њ—З—В–∞—А—М, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ —Б–≥–Њ–љ—П–ї–Є —Б –Ї—А—Л—И–Є —Б–∞—А–∞—П,
—Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ-–њ—А—П–Љ–Њ–є –љ–∞–±–Є—А–∞–ї –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М, –≤—Л—Б–Њ—В—Г –Є —Г—Е–Њ–і–Є–ї –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –Ю–љ –љ–µ
–Љ–Њ–≥ –Є –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –ї–µ—В–∞—В—М –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г —Б –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї—Г–±—П–Љ–Є. –Я–Њ—З—В–∞—А—М —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –Є–Ј
–≥–ї–∞–Ј
–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б –Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ. –Ю–љ –њ–Њ-–њ—А—П–Љ–Њ–є —Г—Е–Њ–і–Є–ї –Є –њ–Њ-–њ—А—П–Љ–Њ–є
–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П.
–°–∞–і–Є–ї—Б—П –њ–Њ—З—В–∞—А—М –љ–∞ —А–Њ–і–љ—Г—О –≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ—О –Є, –љ–µ —Б—Г–µ—В—П—Б—М, –≥–Њ—А–і–Њ —Б–Є–і–µ–ї, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ
—И–µ–≤–µ–ї—П—Б—М, –≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞—П –≤–≤–µ—А—Е —Б–≤–Њ—О –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Г—О —И–µ—О, –Ї–∞–Ї –±—Л –≥–Њ—А–і—П—Б—М —Б–≤–Њ–Є–Љ
–і–Њ–ї–≥–Є–Љ, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –Є –±—Л—Б—В—А—Л–Љ –њ–Њ–ї—С—В–Њ–Љ.
–І–µ–Љ –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є
–≤
—Б—В–∞–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, —В–µ–Љ –ї—Г—З—И–µ. –Ы–µ–≥—З–µ –ї–Њ–≤–Є—В—М –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є —Б–Њ—Б–µ–і–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
–≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–Є–Ї–Є
–Є–Љ–µ–ї–Є –њ–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Є –±–Њ–ї–µ–µ –≥–Њ–ї—Г–±–µ–є. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Љ-—В–Њ –Є —В–∞–Љ-—В–Њ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П
—Б—В–∞–Є, –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –≥–Њ–ї–Њ–≤, –Є —П–Ї–Њ–±—Л –і–∞–ґ–µ, —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М,
-
—Ж–µ–ї—Г—О —Б–Њ—В–љ—О. –Э–Њ –≤ —Н—В–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М. –С–∞–є–Ї–Є!
–У–Њ–ї—Г–±–Є –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ. –Р –Є—Е, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–∞–і–Њ –µ—Й—С
–Є
–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М. –≠—В–Њ –љ–µ –і–Є–Ї–Є–µ –њ—В–Є—Ж—Л, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б. –Ґ–µ –≥–Њ–ї—Г–±–Є –і–∞–ї—М—И–µ –Ї—А—Л—И–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–∞—А–∞—П
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—П–і—Г—В. –У–і–µ –Є–Љ –љ–∞–є—В–Є –Ї–Њ—А–Љ,
–µ—Б–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –љ–µ –і–∞—Б—В? –£–Љ—А—Г—В —Б –≥–Њ–ї–Њ–і–∞. –Р
–Њ–≤—Б—П–љ–Ї–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–∞—П, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –Ї–Њ–љ–Њ–њ–ї–µ, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –ї–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–ї—П
–≥–Њ–ї—Г–±–µ–є, –Є –Є–Љ –µ—С –і–∞–≤–∞–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
–њ–Њ–і–Љ–∞–љ–Є—В—М
—З—Г–ґ–∞–Ї–∞ –Ї –≥—А–Њ—Е–Њ—В—Г, —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ–Њ–њ–ї—О. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –њ–Њ–Ї–ї–µ–≤–∞—В—М, –∞ —В–∞–Ї
–љ–Є-–љ–Є.
–Т–Њ—А–Њ–љ–∞
–Т–∞—А–≤–∞—А–∞
–°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –±–∞—А–∞–Ї–Њ–≤ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л—Е
–≥–Њ–і–Њ–≤,
–њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ—Л —В–Њ–њ–Њ–ї—П. –Ь—Л —А–Њ—Б–ї–Є, —А–Њ—Б–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞–Љ–Є –Є
–љ–∞—И–Є
—В–Њ–њ–Њ–ї—П. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г, –Ї–∞–Ї —П –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В, —В–Њ–њ–Њ–ї—М –њ–Њ–і –Љ–Њ–Є–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –±—Л–ї
—З—Г—В—М
–≤—Л—И–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–ґ–∞. –≠—В–Њ—В —В–Њ–њ–Њ–ї—М –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –≤ —З–µ—А–µ–і–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е
—В–Њ–њ–Њ–ї–µ–є, -
–Њ–љ –Є–Љ–µ–ї —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Ї—Г, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –і–µ—В—Б–Ї—Г—О —А–Њ–≥–∞—В–Ї—Г. –Ф—А—Г–≥–Є—Е —В–∞–Ї–Є—Е —В–Њ–њ–Њ–ї–µ–є –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є
—Г–ї–Є—Ж–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Э–∞–Љ, –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ —Н—В–Є—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤, —В–Њ–њ–Њ–ї—П –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М.
–Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е; –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –њ–∞—Е—Г—З–Є–Љ–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–µ—Б–љ–Њ–є,
–Ї–Њ–≥–і–∞
–њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–≤—Л–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –ї–Є—Б—В–Њ—З–Ї–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—А–≤–∞—В—М
—В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ—Г—О –≤–µ—В–Њ—З–Ї—Г, –њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞—В—М –ї–Є–њ–Ї—Г—О —Б–Љ–Њ–ї—Г, –≤—Л–і–µ–ї—П—О—Й—Г—О—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї–Є—Б—В—М—П—Е,
–Є
–і–Њ–ї–≥–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞—В—М—Б—П —П—А–Ї–Њ-–Ј–µ–ї—С–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є, –Ї–ї–µ–є–Ї–Є–Љ–Є –ї–µ–њ–µ—Б—В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є,
–Є—Б—В–Њ—З–∞—О—Й–Є–Љ–Є
–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –∞—А–Њ–Љ–∞—В. –Ь—Л —Б—А—Л–≤–∞–ї–Є —Н—В—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И—Г—О—Б—П –Ј–µ–ї–µ–љ—М –Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є
—Г
—Б–µ–±—П –і–Њ–Љ–∞ –≤ —В—А—С—Е–ї–Є—В—А–Њ–≤—Л–µ –±–∞–љ–Ї–Є. –Я–Њ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є
–∞—А–Њ–Љ–∞—В,
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –љ–∞–і–Њ–µ–і–∞—О—Й–Є–є. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –і–µ–ї–∞—О—В —Б–µ–є—З–∞—Б –і–µ–Ј–Њ–і–Њ—А–∞–љ—В–Њ–≤ –Є
–і—Г—Е–Њ–≤
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞—Е–∞?
–Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е; –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–њ–Њ–ї—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї –Ј–∞—Ж–≤–µ—В–∞—В—М, –љ–∞
–љ–µ–Љ
–њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —Б–µ—А—С–ґ–Ї–Є –Ј–µ–ї—С–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞,
—З—В–Њ —П–≤–љ–Њ —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Њ —В–Њ–њ–Њ–ї—П. –≠—В–Є —Б–µ—А—С–ґ–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≥—А–Њ–Ј–і—М—П–Љ–Є.
–У—А–Њ–Ј–і–µ–є
–±—Л–ї–Њ –љ–∞ —В–Њ–њ–Њ–ї–µ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –У—А–Њ–Ј–і–Є –љ–∞–±—Г—Е–∞–ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ —В–µ–Љ–љ–µ–ї–Є –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤
–Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –±–∞—А—Е–∞—В–љ—Л–µ —Б–µ—А—С–ґ–Ї–Є —В—С–Љ–љ–Њ-–≤–Є—И–љ—С–≤–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –µ—Й—С
–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–Љ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ. –≠—В–Є
–≥—А–Њ–Ј–і–Є –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞ –Њ—Й—Г–њ—М, –Ї–∞–Ї –±–∞—А—Е–∞—В, –Є –Њ–љ–Є –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –ї–∞—Б–Ї–∞–ї–Є –њ–∞–ї—М—Ж—Л
–Є
–ї–∞–і–Њ–љ—М.
–Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е; —Н—В–Є —Б–µ—А—С–ґ–Ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М
–≤
—Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е, –Є –≤–і—А—Г–≥, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –љ–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Њ—З–Ї–Є
–±–µ–ї–Њ—Б–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ–Њ–є –≤–∞—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е. –Ш –≤–Њ—В
—Н—В–Є
–Ї–Њ–Љ–Њ—З–Ї–Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ –ї—С–≥–Ї–Є–є, –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–є —В–Њ–њ–Њ–ї–Є–љ—Л–є –њ—Г—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–Љ
–≤–µ—В—А–µ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –≤–Њ –≤—Б–µ —Г–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, —Г—Б—В–Є–ї–∞–ї –ї–µ—В–љ–Є–Љ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ –љ–∞—И
–і–≤–Њ—А –Є –Ј–∞–ї–µ—В–∞–ї –≤ –љ–∞—И–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –Њ–Ї–љ–∞. –Ь—Л —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Н—В–Њ –Љ—Г—Б–Њ—А–Њ–Љ. –≠—В–Њ—В
–њ—Г—Е
–±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —З–Є—Б—В. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ, —В–Њ –њ–Њ —З–Є—Б—В–Њ—В–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ–≥ –±—Л
—Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є—З–∞—В—М —Б–Њ —Б–ї–µ–Ј–Њ–є. –Т—Б—С —Н—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –і–ї—П—Й–µ–µ—Б—П
–і–Њ
–њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–ґ–і–Є—З–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є–±–Є–≤–∞–ї —Н—В–Њ—В –њ—Г—Е –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Є –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Г –љ–∞—Б
–њ–Њ—Б–ї–µ
—Н—В–Њ–≥–Њ –ї–Є—И—М –њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ–Љ.
–Я–Њ–Ї–∞ —В–Њ–њ–Њ–ї—М –њ–Њ–і –Љ–Њ–Є–Љ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –±—Л–ї –µ—Й—С –љ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї, —П –ї—О–±–Є–ї
–Ј–∞–ї–µ–Ј–∞—В—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Ї–µ, –ї—О–±—Г—П—Б—М –≤–Є–і–Њ–Љ, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П —Б –≤—Л—Б–Њ—В—Л
–і–≤—Г—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —З—В–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є, –≤–µ–і—М —П —Б–∞–Љ –±—Л–ї –µ—Й—С —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–Љ. –Ь–∞–Љ–∞ –Љ–Њ—П –≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –Є
–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М:
- –°—Л–љ–Њ–Ї,
—Б–Љ–Њ—В—А–Є, –љ–µ —Б–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–љ–Є–Ј, –љ–µ –і–∞–є –±–Њ–≥ —А–∞–Ј–Њ–±—М—С—И—М—Б—П.
–ѓ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –±–Њ–ї—В–∞–ї –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Ї–µ,
–Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Њ–±–љ–Њ –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ.
–ѓ —А–Њ—Б, —А–Њ—Б –Є —В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Ї–∞ —В–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ
–њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М,
—З—В–Њ –Ј–∞–ї–µ–Ј—В—М –љ–∞ –љ–µ—С –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –Є –љ–µ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –Ф–≤–µ –Ї—А–Њ–љ—Л –і–µ—А–µ–≤–∞ —В–∞–Ї
—А–∞–Ј—А–Њ—Б–ї–Є—Б—М,
—З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ —Г –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–∞–Љ–Є —А–∞—Б—В—С—В –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —В–Њ–њ–Њ–ї—О, –∞ —Г
–љ–∞—Б
—Б –Љ–∞–Љ–Њ–є —А–∞—Б—В—С—В –∞–ґ —Ж–µ–ї—Л—Е –і–≤–∞.
–І–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ, —Б–Є–і—П —Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞, —П –≤–і—А—Г–≥ —Б—В–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М, —З—В–Њ
–љ–∞
–Љ–Њ–є —В–Њ–њ–Њ–ї—М —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є–ї–µ—В–∞—В—М —З—С—А–љ–Њ–Ј–Њ–±–∞—П –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ —Б —Б–µ—А—Л–Љ –±—А—О—Е–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ
—Б–∞–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е –≤–µ—В–≤–µ–є, –∞ –і–µ–ї–Њ–≤–Є—В–Њ –њ—А—Л–≥–∞–ї–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –≤–µ—В–≤—П–Љ,
—З–µ–≥–Њ-—В–Њ
—В–∞–Љ –≤—Л–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Ї–∞—А–Ї–∞–ї–∞ –≤–Њ –≤—Б—С —Б–≤–Њ—С –≤–Њ—А–Њ–љ—М–µ –≥–Њ—А–ї–Њ,
–Ї–∞–Ї
—Г –љ–Є—Е —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ, –∞ –≤–µ–ї–∞ —Б–µ–±—П —В–Є—Е–Њ. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞
–њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Ї–ї—О–≤–µ –≤–µ—В–Њ—З–Ї–Є –Є —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М –Є—Е –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–є —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Ї–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ
—В–Њ–њ–Њ–ї—П,
–њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–µ –Є —Б–Њ–ї–љ—Л—И–Ї—Г. –І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ, —Г –љ–µ–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И—Г—Й–µ–µ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ,
–≥–і–µ –Њ–љ–∞ –Є —Г—Б–µ–ї–∞—Б—М, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ —Б–ї–µ—В–∞—П —Б –љ–µ–≥–Њ.
–Т—Б—С —П—Б–љ–Њ; –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞ —Б–µ–±–µ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ, —Б–љ–µ—Б–ї–∞ —П–є—Ж–∞ –Є
—Б—В–∞–ї–∞
–≤—Л—Б–Є–ґ–Є–≤–∞—В—М –њ—В–µ–љ—Ж–Њ–≤. –У–љ–µ–Ј–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—И–µ —Г—А–Њ–≤–љ—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞, –љ–Њ –љ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ґ,
-
–±—Л–ї–∞ –≤–Є–і–љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞ –Є —Е–≤–Њ—Б—В –≤–Њ—А–Њ–љ—Л. –Ь–љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ –љ–µ–є. –ѓ
—З–∞—Б–∞–Љ–Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П, –Ї–∞–Ї –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –≤—Л—Б–Є–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ —П–є—Ж–∞,
–Њ—В–ї—Г—З–∞—П—Б—М –љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ —П –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Њ—П
–≤–Њ—А–Њ–љ–∞
–ї–µ—В–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–∞—И—Г –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї—Г –Є —А—Л–ї–∞—Б—М —В–∞–Љ, –≤—Л–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—П —Б–µ–±–µ
–Ї–Њ—А–Љ.
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ —П –Ј–∞–±—Л–ї –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ –љ–µ–і–Њ–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї —Е–ї–µ–±–∞ –Є
–≤—Л—И–µ–ї –њ–Њ–Є–≥—А–∞—В—М –≤–Њ –і–≤–Њ—А. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, —В–Њ —Е–ї–µ–±–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ –љ–µ
–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М.
–Т—Б—С —П—Б–љ–Њ. –Х–≥–Њ —Г–Ї—А–∞–ї–∞ –≤–Њ—А–Њ–љ–∞. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ —П —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї–Є–ї—Б—П –Є –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї –≤ –≤–Њ—А–Њ–љ—Г
–Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є—В—М
–њ—Г—Б—В–Њ–є –±—Г—В—Л–ї–Ї–Њ–є, –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–±–Є–ґ–∞—В—М –њ—В–Є—Ж—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї
—В–Њ–Љ—Г
–ґ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Б—В–∞—В—М –Љ–∞—В–µ—А—М—О. –Ь–љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –ґ–∞–ї—М –≤–Њ—А–Њ–љ—Г, –Є —П —А–µ—И–Є–ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –љ–∞
–њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞, —Е–Њ—В—П –Є–Ј–ї–Є—И–Ї–Њ–≤ –µ–≥–Њ –≤ –і–Њ–Љ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–Т–Њ—А–Њ–љ–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤–Є–і–µ–ї–∞, —З—В–Њ —Е–ї–µ–± –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞
–њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ.
–Ю–љ–∞ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –≤—Л—В—П–≥–Є–≤–∞—П —И–µ—О, –Є –Ј–Њ—А–Ї–Њ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –ї–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ,
–Є–±–Њ
–љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–µ —Е–ї–µ–± –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П, - –љ–µ–і–Њ–µ–і–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–Њ –Є
–ї—О–і–Є.
–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —П –љ–∞–Є–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –≤–Њ—А–Њ–љ–µ —Е–ї–µ–±, –њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞—П –µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–µ, –љ–Њ
–≤–Њ—А–Њ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ —Б–≤–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Љ–µ–љ—П.
–Ґ–Њ–≥–і–∞ —П –Ї–ї–∞–ї —Е–ї–µ–± –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї –Є –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В –Њ–Ї–љ–∞. –Т–Њ—А–Њ–љ–∞
—Б–ї–µ—В–∞–ї–∞ —Б –≥–љ–µ–Ј–і–∞ –Є —Г—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–є –Ї –Њ–Ї–љ—Г –≤–µ—В–Ї–µ —В–Њ–њ–Њ–ї—П, –љ–Њ, –≤–Є–і—П
–Љ–µ–љ—П,
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї —Е–ї–µ–±—Г –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ—В–∞–ї–∞. –ѓ —Г—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—П –Ј–∞ –љ–µ–є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М
–њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О –і–≤–µ—А—М, –љ–Њ –њ—Г–≥–ї–Є–≤–∞—П –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ —Е–ї–µ–± –Є —В—Г—В –љ–µ –±—А–∞–ї–∞. –Ь–љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –і–≤–µ—А—М, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —П –Љ–Њ–≥
–≤–Є–і–µ—В—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ—Г—О —Б–Ї–≤–∞–ґ–Є–љ—Г, –Ї–∞–Ї –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–ї–µ—В–∞–ї–∞ –Ї –Њ–Ї–љ—Г,
—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ
—Е–≤–∞—В–∞–ї–∞ —Е–ї–µ–± –Є —Г–ї–µ—В–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ—Г—О –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –≤–µ—В–Ї—Г —В–Њ–њ–Њ–ї—П. –Ю–љ–∞ –њ—А–Є–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞ –Ї—Г—Б–Њ–Ї
—Е–ї–µ–±–∞
–Њ–і–љ–Њ–є –ї–∞–њ–Ї–Њ–є –Ї –≤–µ—В–Ї–µ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —А–∞—Б–Ї–ї—С–≤—Л–≤–∞—В—М. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В,
–њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–≤ –Љ–Њ–є –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї, –Њ–љ–∞ –≤–љ–Њ–≤—М —Г—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —П —Б–Ї–∞—А–Љ–ї–Є–≤–∞—О –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —Е–ї–µ–±
–≤–Њ—А–Њ–љ–µ,
—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Њ—В—И–ї—С–њ–∞—В—М, –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і—Г–Љ–∞–ї–∞. –Ь–∞–Љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞
–Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–љ—Г—О –±–∞–љ–Ї—Г –Є–Ј-–њ–Њ–і –Ї–Є–ї–µ–Ї, –љ–∞–ї–Є–ї–∞ –≤ –љ–µ—С –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і—Л, –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–ї–∞ –≥—А–µ—З–Ї–Њ–є –Є
–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ї–µ—А–Њ—Б–Є–љ–Ї—Г. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±–∞–љ–Ї–∞ –Ј–∞–Ї–Є–њ–µ–ї–∞, –Њ–љ–∞ –і–∞–ї–∞ –≤—Л–Ї–Є–њ–µ—В—М –≤—Б–µ–є –≤–Њ–і–µ –Є
–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –±–∞–љ–Ї—Г –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї. –У—А–µ—З–Ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —А–∞–Ј–≤–∞—А–Є–ї–∞—Б—М –Є —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –і—Л–±–Є–ї–∞—Б—М
–≥–Њ—А–Ї–Њ–є. –£–≤–Є–і–µ–≤ –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ –±–∞–љ–Ї—Г —Б –Ї–∞—И–µ–є, –љ–∞—И–∞ –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ –∞–ґ –њ—А–Є–≤—Б—В–∞–ї–∞ —Б
–≥–љ–µ–Ј–і–∞,
—Б–Ї–Њ—Б–Є–ї–∞ –љ–∞–±–Њ–Ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ, –љ–µ –≤–µ—А—П
—Б–≤–Њ–Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ.
–Ь—Л —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л. –ѓ –њ—А–Є–ї—М–љ—Г–ї –Ї –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–є
—Б–Ї–≤–∞–ґ–Є–љ–µ. –Т–Њ—А–Њ–љ–∞ –Є–Ј –≥–љ–µ–Ј–і–∞ —Б—А–∞–Ј—Г —Б–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї –Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞
–±–∞–љ–Ї—Г,
–љ–∞–Ї–ї–Њ–љ—П—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞ –±–Њ–Ї —В–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ, —В–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–≤ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥
–±–∞–љ–Ї–Є, –Њ–љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–Ї–ї—С–≤—Л–≤–∞—В—М –≤–Ї—Г—Б–љ—Г—О –Ї–∞—И–Ї—Г. –І–µ—А–µ–Ј
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –µ—С –Ї–ї—О–≤ —Б—В–∞–ї —Б—В—Г—З–∞—В—М —Г–ґ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—Г—Б—В–Њ–Љ—Г –і–љ—Г –±–∞–љ–Ї–Є.
–Э–∞–Ї–ї–µ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –≥—А–µ—З–Ї–Є, –≤–Њ—А–Њ–љ–∞ –≤–Ј–ї–µ—В–µ–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С –≥–љ–µ–Ј–і–Њ, –≤—В—П–љ—Г–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤
—В—Г–ї–Њ–≤–Є—Й–µ
–Є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –Ј–∞—Б–љ—Г–ї–∞, –љ–µ —И–µ–≤–µ–ї—П—Б—М. –Ь–∞–Љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞:
- –С–Њ–ґ—М—П —В–≤–∞—А—М.
–Ъ–∞–Ї, —Б—Л–љ–Њ–Ї, –љ–∞–Ј–Њ–≤—С–Љ –љ–∞—И—Г –≤–Њ—А–Њ–љ—Г?
- –Э–µ –Ј–љ–∞—О, -
–Њ—В–≤–µ—З–∞–ї —П.
- –Ф–∞–≤–∞–є –љ–∞–Ј–Њ–≤—С–Љ
–µ—С
–≤ —З–µ—Б—В—М –љ–∞—И–µ–є –і–∞–ї—М–љ–µ–є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Л –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ —В—С—В–Є –Т–∞—А–Є.
- –Ф–∞–≤–∞–є, -
—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї
—П.
–° —В–µ—Е –њ–Њ—А –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –Ј–≤–∞—В—М –љ–∞—И—Г –≤–Њ—А–Њ–љ—Г –Т–∞—А–≤–∞—А–Њ–є –Є
–њ–Њ–і–Ї–∞—А–Љ–ї–Є–≤–∞—В—М –µ—С. –Т–Њ—А–Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Ї –љ–∞–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤–∞. –Ю–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П
—Б–Є–і–µ–ї–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –≥–љ–µ–Ј–і–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —В–Є—Е–Њ, –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М, —З—В–Њ–±—Л
–њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г—В—М
—П–є—Ж–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–ї—О–≤–Њ–Љ, –Є —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—П, - –љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М
–ї–Є
—З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ? –Я–Њ—З—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –љ–∞—И–µ–є —В—А–∞–њ–µ–Ј—Л, –Љ—Л –µ–є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ
–њ–Њ–і–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Э–Њ –±—А–∞—В—М —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є, –Т–∞—А–≤–∞—А–∞
–±–Њ—П–ї–∞—Б—М, –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї—Г: "–Я—Г–≥–ї–Є–≤–∞, –Ї–∞–Ї
–≤–Њ—А–Њ–љ–∞".
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ —Б—А–µ–і–Є —П—Б–љ–Њ–≥–Њ, —В—С–њ–ї–Њ–≥–Њ –і–љ—П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –љ–∞–ї–µ—В–µ–ї
—И–Ї–≤–∞–ї–Є—Б—В—Л–є –≤–µ—В–µ—А, –љ–µ–±–Њ –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–ї–Њ, —Б—В–∞–ї–Њ —Б—Г–Љ—А–∞—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–Љ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ. –Ш
—Е–ї—Л–љ—Г–ї
–ї–Є–≤–µ–љ—М, –і–∞ —В–∞–Ї–Њ–є, —З—В–Њ –±–∞—А–∞–Ї–∞ –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Є –љ–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ—В—М, - –≤—Б—С —Б–Ї—А—Л–ї–Њ—Б—М –Ј–∞
–Ј–∞–≤–µ—Б–Њ–є –ї–Є–≤–љ—П. –У—А—П–љ—Г–ї –≥—А–Њ–Љ, –і–∞ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—М–љ—Л–є, —З—В–Њ —П –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П. –°–≤–µ—А–Ї–љ—Г–ї–∞
–Њ–і–љ–∞
–Љ–Њ–ї–љ–Є—П, –і—А—Г–≥–∞—П –Є –ї–Є–≤–µ–љ—М –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П —Е–ї–µ—Б—В–∞—В—М –≤ –Љ–Њ—С —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г—В–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ —В–∞–Ї, —З—В–Њ
–њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М. –°–Љ–Њ—В—А—О, –∞ –љ–∞—И–µ–є –Т–∞—А–≤–∞—А—Л –љ–∞ –≥–љ–µ–Ј–і–µ-—В–Њ –Є –љ–µ –≤–Є–і–љ–Њ.
–Т–µ—В–µ—А –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ —А–∞—Б–Ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В –і–µ—А–µ–≤–Њ —Б –≥–љ–µ–Ј–і–Њ–Љ, –љ–∞ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ
–ї—М—О—В—Б—П –њ–Њ—В–Њ–Ї–Є –≤–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –≤–µ–і—А–∞, –∞ –≥–і–µ –ґ–µ –љ–∞—И–∞ –Т–∞—А–≤–∞—А–∞? –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –µ—С —Б–Њ–≥–љ–∞–ї
—Б
–≥–љ–µ–Ј–і–∞ —Н—В–Њ—В –ї–Є–≤–µ–љ—М. –Э–Њ, –≤–µ–і—М –±–µ–Ј –Т–∞—А–≤–∞—А—Л —П–є—Ж–∞ –Њ—Б—В—Л–љ—Г—В –њ–Њ–і –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞–Љ–Є –≤–Њ–і—Л –Є
–њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В! –£–≤—Л, –љ–Є—З–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –љ–∞—И–µ–є –Т–∞—А–≤–∞—А–µ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥, —Е–Њ—В—П –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М.
–С—Г—А—П
–љ–µ–Є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Љ–Є–љ—Г—В –і–µ—Б—П—В—М, –њ–Њ–ї–Њ–Љ–∞–ї–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤ –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е, –љ–Њ –Љ–Њ–є
—В–Њ–њ–Њ–ї—М —Г—Б—В–Њ—П–ї, –ї–Є—И–Є–≤—И–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–µ—В–Њ–Ї.
–Ъ–∞–Ї –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –±—Г—А—П –њ—А–Є—И–ї–∞, —В–∞–Ї –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Є —Г—И–ї–∞. –Э–µ–±–Њ
—Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї–µ–ї–Њ, –≤—Л–≥–ї—П–љ—Г–ї–Њ —П—А–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Я–Њ –і–≤–Њ—А—Г –Ј–∞–ґ—Г—А—З–∞–ї–Є –≤–µ—Б—С–ї—Л–µ
—А—Г—З–µ–є–Ї–Є. –Т –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –ї—Г–ґ–Є —Г–њ–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —В—П–ґ—С–ї—Л—Е –Ї–∞–њ–µ–ї—М,
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М
–њ—Г–Ј—Л—А–Є, –њ—Г–Ј—Л—А–Є –њ–Њ–њ–ї—Л–ї–Є –њ–Њ –ї—Г–ґ–∞–Љ –≤
–ґ—Г—А—З–∞—Й–Є–µ —А—Г—З–µ–є–Ї–Є, –Є –≤ —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—Г—В–Њ–µ –Љ–љ–Њ—О –Њ–Ї–љ–Њ —Е–ї—Л–љ—Г–ї–∞ —Б–≤–µ–ґ–∞—П
–њ–Њ—Б–ї–µ–≥—А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—П
–њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–∞.
- –С–µ–і–љ–∞—П –Љ–Њ—П –Т–∞—А—П, - –і—Г–Љ–∞—О —П, - —В—Л —В–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ –≤—Л—Б–Є–ґ–Є–≤–∞–ї–∞
—Б–≤–Њ–Є
—П–є—Ж–∞, –Є –≤–і—А—Г–≥ —В–∞–Ї–∞—П –љ–∞–њ–∞—Б—В—М! –Ъ–∞–Ї —В–µ–±—П –Љ–љ–µ –ґ–∞–ї—М. –І—В–Њ –ґ–µ —В—Л —В–µ–њ–µ—А—М –±—Г–і–µ—И—М
–і–µ–ї–∞—В—М?
–°–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ –Є –≤–і—А—Г–≥ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О, —З—В–Њ –Љ–Њ—П –Т–∞—А–≤–∞—А–∞ –љ–∞
—Б–≤–Њ—С–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≥—А–Њ–Ј—Л –Њ–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–љ–µ–Ј–і–∞, –∞
–њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤ –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї –≤–і–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М, —З—В–Њ –µ—С –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ. –ѓ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞ –Т–∞—А–≤–∞—А—Г
–Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, - —В–µ–њ–µ—А—М —Г –љ–µ–є –њ–Њ—П–≤—П—В—Б—П –њ—В–µ–љ—З–Є–Ї–Є.
–Э–∞—Б–Є–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Т–∞—А–≤–∞—А—Л –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–і–Њ
—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П, –Є–±–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П –Љ—Л –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї–Є—Б—М –Њ—В
–љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ-–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ –≥–≤–∞–ї—В–∞, –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–≥–Њ –і–≤—Г–Љ—П –≤–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –≤–Њ—А–Њ–љ –±—Л–ї–∞
–љ–∞—И–µ–є –Т–∞—А–µ–є, –∞ –і—А—Г–≥–∞—П –±—Л–ї–∞ —З—Г–ґ–Њ–є –≤–Њ—А–Њ–љ–Њ–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П
–≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–є –≥—А–Њ–Ј—Л –њ–Њ–≥–Є–±–ї–∞ –Ї–ї–∞–і–Ї–∞. –Ш –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–Ї—Г –љ–∞—И–µ–є
–Т–∞—А–Є,
–љ–∞–ї–µ—В–∞—П –љ–∞ –љ–µ—С –Є —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –≤—Л—И–Є–±–Є—В—М –µ—С –Є–Ј –≥–љ–µ–Ј–і–∞. –Э–∞—И–∞ –Т–∞—А–≤–∞—А–∞ –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М,
–Ї–∞–Ї
–Љ–Њ–≥–ї–∞, –љ–Њ —Н—В–Њ –Љ–∞–ї–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ.
–Э–µ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ–∞—П –≥–Њ—Б—В—М—П –Ї–ї–µ–≤–∞–ї–∞—Б—М, –±–Є–ї–∞ –љ–∞—И—Г –Т–∞—А–≤–∞—И—Г –Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є.
–Т
–≤–Њ–Ј–і—Г—Е –ї–µ—В–µ–ї–Є –њ–µ—А—М—П, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –њ—А–Њ—Е—Г–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞–≤–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—С —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ
—В—А—П—Б—В–Є. –°—В–Њ—П–ї —В–∞–Ї–Њ–є –≥–≤–∞–ї—В, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Б–Њ—Б–µ–і–Є, —А–∞–Ј–±—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —В–∞–Ї —А–∞–љ–Њ,
–њ–Њ–≤—Л—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М
–Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–Ї–Њ–љ –Є –Ј–∞—И–Є–Ї–∞–ї–Є –љ–∞ –і–µ—А—Г—Й–Є—Е—Б—П –≤–Њ—А–Њ–љ. –Э–Њ —В–µ –Є—Е –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є, –Є –і—А–∞–Ї–∞
–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –Њ—Б–ї–∞–±–µ–≤–∞—П. –Т –њ—Л–ї—Г –і—А–∞–Ї–Є –µ–ї–µ –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –≥–љ–µ–Ј–і–Њ —Г–њ–∞–ї–Њ, –≤—Б–µ
—П–є—Ж–∞
—А–∞–Ј–±–Є–ї–Є—Б—М, –љ–Њ –≤–Њ—А–Њ–љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є. –Ю–љ–Є —Г–ґ–µ –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ
–љ–∞–ї–µ—В–∞–ї–Є
–і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞ —Б —И—Г–Љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —Г–і–∞–ї—П—П—Б—М –Њ—В –љ–∞—Б.
–Х—Й—С –і–Њ–ї–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –і–≤–µ –≤–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М
–Њ–і–љ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –і–≤–Њ–Є—Е. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Є—Е –і—А–∞–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В
–љ–∞—Б, –Є –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї–Њ —В–Є—Е–Њ. –†–∞–Ј–±–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —П–є—Ж–∞ –і–Њ–ї–Є–Ј–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–±–µ–≥–∞–≤—И–∞—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞. –°
—В–µ—Е
–њ–Њ—А –Љ—Л –љ–∞—И—Г –Т–∞—А–≤–∞—А—Г –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є.
–Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В —П –њ—А–Є—И—С–ї –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ
–Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї –Љ–Њ–є –±–∞—А–∞–Ї. –ѓ –і–Њ–ї–≥–Њ —Е–Њ–і–Є–ї, –њ—А–Є—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П—Б—М –Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ
–Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П
–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ–є–Ј–∞–ґ—Г, –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–∞–є—В–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥
–≤—Л—Б–Є–ї–Є—Б—М
–Љ–љ–Њ–≥–Њ—Н—В–∞–ґ–љ—Л–µ –і–Њ–Љ–∞, –Є –і–µ—А–µ–≤—М—П –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–µ —В–µ. –Э–Њ, –≤–і—А—Г–≥, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Ї–µ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї
—Б—В–∞—А—Л–є —В–Њ–њ–Њ–ї—М, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –њ–Њ–і –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Љ–Њ–є —В–Њ–њ–Њ–ї—М —Б
—А–∞–Ј–≤–Є–ї–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї —Г –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —А–Њ–≥–∞—В–Ї–Є, - —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. –Ґ–Њ–њ–Њ–ї—М
–Љ–Њ–µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —Б—В–Њ—П–ї –≤—Б—С –љ–∞ —В–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Њ—З–µ–љ—М
—Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞—А–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Є —П. –ѓ –Њ–±–љ—П–ї –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г
—Й–µ–Ї–Њ–є, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—С –і–µ—В—Б—В–≤–Њ, –Љ–Њ—О –Љ–∞–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –≤–∞—А–Є–ї–∞ –Ї–∞—И–Ї—Г –і–ї—П
–Љ–µ–љ—П
–Є –≤–Њ—А–Њ–љ—Л –Т–∞—А–≤–∞—А—Л. –Ш —Б–ї—С–Ј—Л –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –љ–µ—Г–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–є –њ–Њ—В–µ–Ї–ї–Є –њ–Њ –Љ–Њ–Є–Љ
–Љ–Њ—А—Й–Є–љ–Є—Б—В—Л–Љ —Й–µ–Ї–∞–Љ.
–Ь–Њ–є
—В–Њ–њ–Њ–ї—М 2009
–≥–Њ–і.
–Ш –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –Њ–±—П–Ј–∞–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ
—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–Љ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ–∞–Љ–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї —П –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј
—Б–≤–Њ–Є—Е
—Б–∞–Љ—Л—Е —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–є, –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–µ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і —Б –Љ–Њ–Є–Љ
–њ–Њ—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–Љ —В–Њ–њ–Њ–ї–µ–Љ:
–Ъ–∞–ї–Є–љ–Ї–∞
–Я–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ–µ,
–Я–∞–љ–∞—А–Є–љ–Њ–є –Ь–∞—А–Є–Є
–Р–љ–Є—Б–Є–Љ–Њ–≤–љ–µ.
 –Я–Њ–і –Њ–±—А—Л–≤–Њ–Љ
–Ї–∞–ї–Є–љ–Ї–∞
–Я–Њ–і –Њ–±—А—Л–≤–Њ–Љ
–Ї–∞–ї–Є–љ–Ї–∞
–Ю–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ
—А–Њ—Б–ї–∞.
–Т—Б—П
—В–Њ–љ–Ї–∞, –Ї–∞–Ї —В—А–Њ—Б—В–Є–љ–Ї–∞,
–Ш
–≤–µ—Б–љ–Њ–є –љ–µ —Ж–≤–µ–ї–∞.
"–І—В–Њ —Б—В–Њ–Є—И—М —В—Л
–≤
–љ–Є–Ј–Є–љ–Ї–µ,
–Т–µ—В–≤–Є
–≤ –њ—Л–ї—М –Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤?
–Т–µ–і—М
—В–µ–±–µ —Б–Є—А–Њ—В–Є–љ–Ї–µ
–Э–µ
–≤–Ј–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Њ–±—А—Л–≤.
–Э–µ
—Г–≤–Є–і–µ—В—М –Њ–Ї—А—Г–≥—Г,
–Ф–∞–ї—М
—Е–Њ–ї–Љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ–ї–µ–є.
–Э–µ
–њ–Њ–±–µ–≥–∞—В—М –њ–Њ –ї—Г–≥—Г,
–У–і–µ
–њ–µ—В–ї—П–µ—В —А—Г—З–µ–є.
–Т–µ—В–µ—А,
–±–∞–ї–Њ–≤–µ–љ—М —Б–≤–µ–ґ–Є–є,
–Э–µ
–Њ—Б—В—Г–і–Є—В –≤ –ґ–∞—А—Г.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Ї–Њ–≥–Њ—В—М –Љ–µ–і–≤–µ–ґ–Є–є
–Ю–±–і–µ—А—С—В
–≤—Б—О –Ї–Њ—А—Г.
–°–Њ–ї–љ—Ж–∞ –ї—Г—З
–Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л–є
–Э–µ
–њ—А–Є–≥—А–µ–µ—В —В–µ–±—П.
–Я—Л–ї–Ї–Є–є
—В–Њ–њ–Њ–ї—М –≤–µ—В–≤–Є—Б—В—Л–є
–Э–µ –Њ–±–љ–Є–Љ–µ—В
–ї—О–±—П".
–Ц–Є–Ј–љ—М
–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є, –Ь–Њ—П
–Љ–∞–Љ–∞.
–С–Њ–ґ–Є–є
–і–∞—А, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М!
–С–µ–Ј
–ї—О–±–≤–Є –ґ–µ –Є –ї–∞—Б–Ї–Є
–°—З–∞—Б—В—М—П
–љ–∞–Љ –љ–µ –≤–Є–і–∞—В—М.
–ѓ
—Г–≤–Є–і–µ–ї —В—А–Њ–њ–Є–љ–Ї—Г,
–Ш
—Б–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М —Б–Њ —Б–Ї–∞–ї,
–У–Њ—А–µ–Љ—Л–Ї—Г
–Ї–∞–ї–Є–љ–Ї—Г,
–Ъ–∞–Ї
—Б–µ—Б—В—А—С–љ–Ї—Г –Њ–±–љ—П–ї.
–Ш —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Є—А–Њ—В–Є–љ–Ї–∞
–І—Г–≤—Б—В–≤ —Б–і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞.
–Т
–Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ –Ї–∞–ї–Є–љ–Ї–∞
–Я—Л—И–љ–Њ
–≤–і—А—Г–≥ —А–∞—Б—Ж–≤–µ–ї–∞.
–ѓ—И–Є–љ–∞
–Ц–Є–ї–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ
–±–∞—А–∞–Ї–µ –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–µ–Љ—М—П –µ–≤—А–µ–µ–≤. –С–∞–±–Ї–µ —Н—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ
–њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≥–љ–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–љ—Г–Ї–∞ –ѓ—И—Г –і–Њ–Љ–Њ–є. –С–∞–±–Ї–∞ –≤—Л—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ-–њ–Њ—П—Б –Є–Ј
–Њ–Ї–љ–∞, –Є —Б–Њ —Б–ї–∞–±–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –љ–∞ —Г—Б–њ–µ—Е –Ї—А–Є—З–Є—В —Б –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Є–Љ
–∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ:
- –ѓ—И–Є–љ–∞!
–Ф–Њ–Љ–Њ–є!
–ѓ—И–∞, –Љ–∞–ї–µ—Ж –ї–µ—В –њ—П—В–Є, –Є —Г—Е–Њ–Љ –љ–µ –≤–µ–і—С—В. –І—В–Њ –µ–Љ—Г –≤ –ї–µ—В–љ—О—О
–ґ–∞—А—Г,
—В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –і–Њ–ґ–і—П, –і–µ–ї–∞—В—М —Б –±–∞–±–Ї–Њ–є –≤ –і—Г—И–љ–Њ–Љ –±–∞—А–∞–Ї–µ? –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ –±–µ–≥–∞—В—М –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–љ–і–∞–ї–Є—П—Е –њ–Њ–њ–µ—А—С–Ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –ї—Г–ґ–Є. –С–∞–±–Ї–∞ –љ–µ
—Г–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Є
–Ї—А–Є—З–Є—В —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ, –љ–Њ —Н—В–Њ
–љ–µ
–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А–∞—П, —Б–≥–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ–∞—П –±–∞–±–Ї–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В
–±–µ–≥–∞—В—М
–Ј–∞ –≤–љ—Г–Ї–Њ–Љ, –µ–ї–µ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞—П —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ–і–∞–≥—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–Њ–≥–Є.
–Э–Њ –љ–µ —В—Г—В-—В–Њ –±—Л–ї–Њ. –ѓ—И–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –±–µ–≥–∞—В—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є
–ї—Г–ґ–Є,
–Є –±–∞–±–Ї–µ –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ —Г–і–∞—С—В—Б—П. –Э–Њ –љ–µ –±–µ–≥–∞—В—М –ґ–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –ї—Г–ґ–Є –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞!
–С–∞–±–Ї–∞-—В–Њ
–≤–µ–і—М –љ–µ –Њ—В—Б—В–∞–љ–µ—В. –Ш –≤–Њ—В –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —И–µ–ї—М–Љ–µ—Ж –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –љ–µ
–і–∞—В—М—Б—П –±–∞–±–Ї–µ –≤ —А—Г–Ї–Є. –Ю–љ –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б–∞–Љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –ї—Г–ґ–Є –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї
–±–∞–±–Ї–∞ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В—М, –љ–µ –Ј–∞–Љ–Њ—З–Є–≤ –љ–Њ–≥–Є. –Э–Њ –ї—Г–ґ–∞ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞. –С–∞–±–Ї–∞
–і–Њ—В—П–љ—Г—В—М—Б—П
–љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ –≤–љ—Г–Ї–∞. –Ю–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —А—Г–≥–∞—В—М—Б—П, –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ –Є –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ–∞–ї—П—П—Б—М:
- –£, –ѓ—И–Є–љ–∞!
–£,
–±–∞–љ–і–∞! –£, –Ј–ї–Њ–є –і—Г—Е! –£, —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞! –І—В–Њ–± —В–µ–±–µ, –±–∞–љ–і–Є—В—Г, —А—Г–Ї—Г
—Б–Ї—А—О—З–Є–ї–Њ,
—З—В–Њ–± —Г —В–µ–±—П –љ–Њ–≥–Є –њ–Њ–Њ—В–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М! –Ъ–∞–Ї —В–µ–±–µ –љ–µ —Б—В—Л–і–љ–Њ? –Ґ–µ–±–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Ї—Г–њ–Є–ї–Є
–љ–Њ–≤—Л–µ
—Б–∞–љ–і–∞–ї–Є–Є. –Т—Л–ї–µ–Ј–∞–є, –Є–љ–∞—З–µ —П —В–µ–±–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Б–µ —А—Г–Ї–Є-–љ–Њ–≥–Є
–њ–Њ–Њ–±–ї–Њ–Љ–∞—О.
–ѓ—И–∞
—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ
—Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –ї—Г–ґ–Є –Є –Ї–Њ–≤—Л—А—П–µ—В –≤ –љ–Њ—Б—Г, –љ–Њ –≥–ї–∞–Ј —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–ї–Њ–є –±–∞–±–Ї–Є –љ–µ
—Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В. –Т–Є–і—П, —З—В–Њ –≤–љ—Г–Ї–∞ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –≤–Ј—П—В—М, –±–∞–±–Ї–∞ –Љ–µ–љ—П–µ—В —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г. –Ю–љ–∞
–љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –µ–≥–Њ –њ–Њ-—Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ—Г —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М:
- –ѓ—И–Є–љ–∞, —З—В–Њ
–ґ–µ
—В—Л –і–µ–ї–∞–µ—И—М, —Б–Ї–≤–µ—А–љ—Л–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞. –Т—Б–µ –і–µ—В–Є, –Ї–∞–Ї –і–µ—В–Є, –∞ —В—Л —Б—В–Њ–Є—И—М –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є
–≥—А—П–Ј–љ–Њ–є
–ї—Г–ґ–Є –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–љ–і–∞–ї–Є—П—Е. –Т—Л–ї–µ–Ј–∞–є, –њ–∞—А—И–Є–≤–µ—Ж. –•–Њ—З–µ—И—М, —П –і–∞–Љ —В–µ–±–µ –≤–Ї—Г—Б–љ—Г—О
–Ї–Њ–љ—Д–µ—В–Ї—Г?
–Ш –±–∞–±–Ї–∞
–њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –ї–µ–і–µ–љ–µ—Ж –≤–љ—Г–Ї—Г:
- –Э–∞, –±–µ—А–Є.
–ѓ—И–∞ —Е–Њ—З–µ—В –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–Ї—Г, –љ–Њ –±–Њ–Є—В—Б—П –±–∞–±–Ї–Є. –Ю–љ –љ–µ—А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ
–њ—А–Њ—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О —А—Г—З–Њ–љ–Ї—Г –Ј–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–Ї–Њ–є, –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і—П –Є–Ј –ї—Г–ґ–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ
—Е–≤–∞—В–∞–µ—В –±–∞–±–Ї–µ, —З—В–Њ–±—Л —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М –≤–љ—Г–Ї–∞ –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г, –≤—Л—В–∞—Й–Є—В—М –µ–≥–Њ –Є–Ј –ї—Г–ґ–Є, –Ј–∞–ґ–∞—В—М
–њ–Њ–і
–Љ—Л—И–Ї—Г –Є —И–ї—С–њ–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ –Ј–∞–і–љ–Є—Ж–µ –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–∞ –µ–≥–Њ —В–∞—Й–Є—В –і–Њ–Љ–Њ–є. –С–µ–і–љ—Л–є
–ѓ—И–∞
—В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і–љ–Њ–є –±–∞–±–Ї–µ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, –Є —Б –њ–ї–∞—З–µ–Љ –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥,
–љ–Њ
—Б–Є–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ.
–Т–Њ—В —В–∞–Ї, –њ–Њ—А–Њ—О, –љ–∞–Љ, –і–µ—В—П–Љ, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ
—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –і–∞–ґ–µ –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ–є
–Ї–Њ–љ—Д–µ—В–Ї–Є.
–°–∞–Љ–∞—П
—Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ
–Њ–±–Љ–µ–љ—П—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є –љ–∞
–Ї–Є—А–Ј–Њ–≤—Л–µ —В–∞–њ–Њ—З–Ї–Є. –Т—Л–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–ї–Є—Ж–Њ, - –≤ —В–∞–њ–Њ—З–Ї–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–≥—А–∞—В—М –≤ —Д—Г—В–±–Њ–ї, –∞
–≤
–љ–Њ–≤—Л—Е –±–Њ—В–Є–љ–Ї–∞—Е —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞—В—А—С—И—М –љ–Њ–≥–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–є –±—Г–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї –љ–∞
—А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л–є –Љ—П—З. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤–µ—Б—М –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В –Є –Њ–±–Љ–µ–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞
–Ї–ї–µ—В–Ї—Г
–і–ї—П –њ—В–Є—Ж.
–ѓ —Б–∞–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Љ–∞—В—М –Ї—Г–њ–Є—В—М –Љ–љ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л–є
–Љ—П—З. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї, —В–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Љ–Њ—С –±—Л–ї–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е –љ–µ–і–µ–ї—М, —В–∞–Ї
–Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ,
–≤–і—А—Г–≥, –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ї–∞—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–µ. –ѓ –Њ—В–і–∞–ї –љ–Њ–≤—Л–є, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Љ—П—З
–і–ї—П
–Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П –Ї–∞—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–µ —Б —Г—В—А–∞ –Є –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞. –Я—А–∞–≤–і–∞,
—Б–і–µ–ї–Ї–∞
–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є. –Ь–Њ–Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –њ–∞—А—В–љ—С—А—Л –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є —Г –Љ–µ–љ—П
–≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і –љ–∞ –і–≤–∞ –і–љ—П —А–∞–љ—М—И–µ. –Ь–Њ–Є–Љ –≥–Њ—А—О—З–Є–Љ —Б–ї–µ–Ј–∞–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є –Ї—А–∞—П. –Р —Б
–Љ–∞—В–µ—А—М—О –±—Л–ї –Ї—А—Г—В–Њ–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —В—А—С–њ–Ї–Њ–є: –≥–і–µ –Љ—П—З? –Э–Њ
–Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤
—Б –Љ—П—З–Њ–Љ –љ–∞–є—В–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –° –Њ–±–Є–і—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ —А–∞–Ј–±–µ—А—С—И—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Є–Љ –љ–∞
–і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ.
–Ъ–Є–љ–Њ
–Ъ–Є–љ–Њ! –Ъ–Є–љ–Њ!! –Ъ–Є–љ–Њ!!! - –≠—В–Њ —З—Г–і–Њ 20-–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞
—В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ґ–µ–∞—В—А –±—Л–ї –љ–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–љ—П—В–µ–љ –Є –љ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–µ–љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Ї–Є–љ–Њ,
–љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –†–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б—З—С—В–Њ–Љ
–љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е.
–Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–Њ–≤. –°–∞–Љ—Л–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –±—Л–ї
–±–∞—А–∞–Ї
—А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–Њ–Љ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А": –≤ –љ—С–Љ –Ї—А—Г—В–Є–ї–Є –Ї–Є–љ–Њ. –Т –±–∞—А–∞–Ї –љ–∞–±–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М
—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г, —З—В–Њ –і—Л—И–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ—З–µ–Љ. –Э–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Љ
–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М: –Љ—Л –љ–µ –≤ –±–∞—А–∞–Ї–µ, - –Љ—Л —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–∞. –Ф–Њ—Б—В–∞—В—М –±–Є–ї–µ—В –±—Л–ї–Њ –љ–µ
—В–∞–Ї-—В–Њ
–њ—А–Њ—Б—В–Њ, - –≤—Б–µ —Е–Њ—В—П—В –≤ –Ї–Є–љ–Њ, –∞ –Љ–µ—Б—В-—В–Њ –Љ–∞–ї–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞
–≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–ї–Є–љ–љ–∞—П –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л–є —Д–Є–ї—М–Љ,
—В–∞–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ї "–Ґ–∞—А–Ј–∞–љ".
–Ґ—Г—В –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–∞–≤–Ї–∞, - –Њ—З–µ—А–µ–і–Є —Г–ґ–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ.
–Ю–Ј–≤–µ—А–µ–≤—И–∞—П —В–Њ–ї–њ–∞ –Њ–±—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–µ –Њ–Ї–Њ—И–Ї–Њ, –Є –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ
–±—Л–ї–Њ
–і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –љ–µ–≥–Њ. –Х—Й—С —В—А—Г–і–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞—В—М—Б—П –Є–Ј —В–Њ–ї–њ—Л. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ
—Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Є –±–Є–ї–µ—В–∞–Љ–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ъ—В–Њ –ґ–µ –њ—А–Њ–і–∞—Б—В –±–Є–ї–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї
—В—А—Г–і–љ–Њ
–і–Њ—Б—В–∞–ї—Б—П? –Т –Њ–і–љ–Є —А—Г–Ї–Є –і–∞–≤–∞–ї–Є –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 2-—Е, 3-—Е –±–Є–ї–µ—В–Њ–≤. –Ф–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ,
—З—В–Њ –Ј–∞–і–љ–Є–µ
–њ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ –њ–Њ–ї–Ј–Ї–Њ–Љ –і–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–є –Ї–∞—Б—Б—Л –Є –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ. –Ъ—В–Њ –Љ–Њ–≥
–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —В–∞–Љ 50 –ї–µ—В –≤ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А –љ–µ –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є—И—М? –І–∞—Й–µ
–≤—Б–µ–≥–Њ
–≤—Б–µ –±—Г–і—Г—В —Б–Є–і–µ—В—М –і–Њ–Љ–∞ –Є –ї–µ–љ–Є–≤–Њ —Й—С–ї–Ї–∞—В—М –њ—Г–ї—М—В–Њ–Љ, –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї–∞–љ–∞–ї—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ
—В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–±—Л—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤, –≤–њ–ї–Њ—В—М
–і–Њ
–њ–Њ—А–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е.
–Т—В–Њ—А—Л–Љ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Ј–∞–ї –Ј–∞–≤–Њ–і–∞
.48.
–Ґ—Г–і–∞ –Љ—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞
"–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А–µ".
–С–Є–ї–µ—В—Л —Б—В–Њ–Є–ї–Є –Њ—В 20-—В–Є, –і–Њ 50-—В–Є –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї. –Э–Њ –Є–Љ–µ—В—М –і–∞–ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ
–і–µ–љ—М–≥–Є
–љ–∞–Љ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Љ–Њ—И–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ–Ї—Г–њ–∞–µ–Љ
–±–Є–ї–µ—В, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б–µ–∞–љ—Б–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г —А—П–і–Њ–≤ —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –±–Є–ї–µ—В—Л, —Г
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–Њ—А–≤–∞–љ—Л –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є. –Ч–∞—В–µ–Љ –≤—Л–≥—А–µ–±–∞–µ–Љ –Њ—В–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є –Є–Ј —Г—А–љ—Л,
–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П
—Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ.
–Ф–∞–ї–µ–µ –і–Њ–Љ–∞ –Љ—Л –ї–Њ–≤–Ї–Њ –≤–∞—А—С–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Њ–є —Б–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–ї–Є –±–Є–ї–µ—В—Л —Б
–Є—Е
–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П–Љ–Є, –њ—А–Њ–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞—П –Є—Е –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ —Г—В—О–≥–Њ–Љ, –і–∞ —В–∞–Ї –ї–Њ–≤–Ї–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ—А—Л
–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Є—Е –Ј–∞ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –±–Є–ї–µ—В—Л. –Т—Б—С —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і "–Љ—Г–і—А—Л–Љ"
—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ы—С–≤–Ї–Є-–†—Л–ґ–µ–≥–Њ. –Ґ–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В—М —В—Г—В –±—Л–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞; –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–ґ–∞—В—М
–±–Є–ї–µ—В –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –≤ –Љ–µ—Б—В–µ —Б–Ї–ї–µ–є–Ї–Є. –Т –і–∞–≤–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М
–њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ –≤ –Ї–Є–љ–Њ–Ј–∞–ї, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—С—А—И–µ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М –±–Є–ї–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є –Є
—А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М, –љ–µ –±–µ—А—П –±–Є–ї–µ—В –≤
—А—Г–Ї–Є. –≠—В–Є–Љ –Љ—Л –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –љ–∞–њ–Є—А–∞—П –љ–∞ —В–Њ–ї–њ—Г –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –і–∞–≤–Ї—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ,
–љ–∞–Љ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ —Д–Є–ї—М–Љ—Л –љ–∞—Е–∞–ї—П–≤—Г.
–Э–Њ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б –≤—Л—И–≤—Л—А–Є–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–љ, –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—С—А—И–Є –±—А–∞–ї–Є –≤
—А—Г–Ї–Є
–±–Є–ї–µ—В –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–і–µ–ї–Ї—Г. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—П
–љ–µ
–њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –љ–∞ —Д–Є–ї—М–Љ "–Т —Б–µ–Љ—М —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л". –Ь–Њ–µ–Љ—Г –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є—О
–љ–µ
–±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –≠—В–Њ—В —Д–Є–ї—М–Љ –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤
–ї–µ—В –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А—Г, —Г–ґ–µ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П. –Т—Б—С –љ—Г–ґ–љ–Њ
–і–µ–ї–∞—В—М
–≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П.
–Ґ—А–µ—В–Є–є –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А, –≥–і–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Д–Є–ї—М–Љ—Л, –±—Л–ї —Г –Ј–∞–≤–Њ–і–∞
"–Т–Ш–Ь"
–≤ –Т—П–Ј–Њ–≤–Ї–µ.
–Я—А–Њ—Е–Њ–і –Ї
–Т—П–Ј–Њ–≤–Ї–µ
–Љ–µ–ґ–і—Г —Б–µ–Љ–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Њ–є –Є –њ—П—В–Є—Н—В–∞–ґ–Ї–Њ–є.
–≠—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ: –Љ–Є–љ—Г—В –і–µ—Б—П—В—М
–њ–µ—И–Ї–Њ–Љ. –Ґ—Г–і–∞
—Е–Њ–і–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ. –Ь–µ—Б—В–љ–∞—П —И–њ–∞–љ–∞ –љ–∞–Љ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–∞ –Њ–±—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О, –Є —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ
–њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –Є–Ј –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ї–Є–љ–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Є–љ—П–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ,
–љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М, –Љ—Л —В—Г–і–∞ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є, –Є–±–Њ –љ–∞—И "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А" –љ–∞—Б –љ–µ
–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї.
–І–µ—В–≤—С—А—В—Л–Љ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ, –±—Л–ї –Ї–ї—Г–± –Я–Т–†–Ч
(–Я–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ-—А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і). –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Є
—И–Є–Ї–∞—А–љ—Л–є
–Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А —Б –±–∞–ї–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –±–∞—А–∞—З–љ—Л–µ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е
—Н–Ї—А–∞–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —З—Г—В—М –≤—Л—И–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤, –∞ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і –љ–Є–Ј–Ї–Є–Љ –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ. –Э–Њ —В—Г–і–∞
–±—Л–ї–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ —Е–Њ–і–Є—В—М. –Э—Г, —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј –Є –њ–Њ–є–і—С—И—М: –Љ–Є–љ—Г—В —Н—В–∞–Ї
–њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Е–Њ–і—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –≤–µ–і—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М
–Љ–∞–ї–Њ. –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г, –љ–∞–Є–≥—А–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ, –њ–Њ–Є–Ј–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і
–У–Њ–≥–Њ–є,
–Є–ї–Є –±–∞–±–Њ–є –Ы–µ–љ–Њ–є, –њ–Њ—Б—В—А–µ–ї—П—В—М –Є–Ј —А–Њ–≥–∞—В–Њ–Ї –≤–Њ—А–Њ–±—М–µ–≤, –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ.
–Ъ–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А –Ї–ї—Г–±–∞ –Я–Т–†–Ч.
–Я—А–Є –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–∞ "–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А", –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ
–њ—А–µ–ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–Є–є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ї—А–Њ–Љ–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ–Љ, —П –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М
–љ–µ
–Љ–Њ–≥—Г. –Ф–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Д–Є–ї—М–Љ-–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В: "–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А". –Т —Н—В–Њ–Љ —Д–Є–ї—М–Љ–µ
–≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–∞, –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –Ь–Њ–Є—Б–µ–µ–≤–∞ –Є –њ–µ–≤–Є—Ж–∞ –Ь–∞–є—П
–У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П.
–Ъ–∞–і—А –Є–Ј —Д–Є–ї—М–Љ–∞-–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞:
"–Я—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є
–≤–µ—З–µ—А".
–Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П –≤
—Ж–µ–љ—В—А–µ.
–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –њ–µ–≤–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –њ–µ–ї–∞
"–•–∞–±–∞–љ–µ—А—Г"
–Є–Ј –Њ–њ–µ—А—Л –С–Є–Ј–µ "–Ъ–∞—А–Љ–µ–љ". –Ъ–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–µ–ї–∞ –њ–µ–≤–Є—Ж–∞ —Н—В—Г –∞—А–Є—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ
–Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М, –љ–Њ –љ–µ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ. –Р —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, - —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞
—Б–∞–Љ–∞
–њ–µ–≤–Є—Ж–∞. –С–Њ–ї—М—И–µ–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Л –Ј–∞ –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞
–Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞ –Є –Њ–±–≤–Њ—А–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞ –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П, - –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ
–ґ–µ, —Г
—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤—И–Є—Е –љ–∞ –љ–µ—С. –Ь–љ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 16 –ї–µ—В. –Т–ї—О–±—З–Є–≤ —П –±—Л–ї –і–Њ
–љ–µ–њ—А–Є–ї–Є—З–Є—П,
–њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ш –≤–Њ—В, –њ—А–Є –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї—М–Љ–∞ —П –≤–ї—О–±–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–∞–є—О
–У–Њ–ї–Њ–≤–љ—О...
–Я—А–Є—И–ї–Є –У–Њ—А–±–∞—З—С–≤—Б–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б—С —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ. –ѓ
–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –Э–Ш–Ш –Я—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–є –§–Є–Ј–Є–Ї–Є, –≥–і–µ —П "–і–≤–Є–≥–∞–ї" –љ–∞—Г–Ї—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є
—Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є
–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –Є —Г—И—С–ї –≤ –∞—А—В–Є—Б—В—Л. –Т –∞—А—В–Є—Б—В—Л, - —Н—В–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Т–µ—А–љ–µ–µ, —П
—Г—И—С–ї –≤ –∞–≤—В–Њ—А—Л-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є –њ–µ—Б–µ–љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ –±–∞—А–і—Л, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М.
–Э–∞—Б–Њ—З–Є–љ—П–ї –њ–µ—Б–µ–љ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Є—Е –њ–Њ–і –≥–Є—В–∞—А—Г.
–Т–љ–∞—З–∞–ї–µ —П —Б—В–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ –†–Њ—Б–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї
–Љ–љ–µ
–њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г –≤ –Ї–ї—Г–±–µ –Ъ–ї—П–Ј—М–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ–∞—В–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–Є —Б–Њ–ї—М–љ—Л–µ –і–љ–µ–≤–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л, –≥–і–µ –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞—О—Й–Є—Е –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ–∞—В–∞
–≤—Е–Њ–і
–±—Л–ї –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Л–Љ. –Ч–∞–ї –≤–Љ–µ—Й–∞–ї 500 –њ–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В. –Э–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В—М –Ј—А–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±—Л–ї–∞
–Њ—В
50-—В–Є –і–Њ 90-—Б—В–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤, –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ–Њ–≥–Њ–і—Л. –І–µ–Љ —Е—Г–ґ–µ –њ–Њ–≥–Њ–і–∞, —В–µ–Љ
–±–Њ–ї—М—И–µ
–Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П –ґ–∞–ґ–і–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і—Л.
–Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –±–µ–Ј –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–∞ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –і–≤—Г—Е
—З–∞—Б–Њ–≤. –Я–µ—А–≤—Л–є —З–∞—Б —П –њ–µ–ї —Б–≤–Њ–Є –њ–µ—Б–љ–Є —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ
—Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ
–њ–Њ–і –≥–Є—В–∞—А—Г. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞ —П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –њ–µ—Б–љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤:
–Т—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –Ю–Ї—Г–і–ґ–∞–≤—Л, –Ъ—Г–Ї–Є–љ–∞, –Ш–≥–Њ—А—П –≠—А–µ–љ–±—Г—А–≥–∞ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е. –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї
—В–∞–Ї–Њ–є
–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А —Н—В–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, —З—В–Њ –≤—Б–µ—Е –Є—Е –њ–µ—А–µ–њ–µ—В—М —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї. –Ш
–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є –њ–µ—Б–љ–Є –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е —Г —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤–µ–і—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –Є—Е —Б–∞–Љ—Л–µ
–ї—Г—З—И–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є. –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤ –Ї–ї—Г–±–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, –≥–і–µ
–≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—Л, –Є –≥–і–µ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є –≤—Е–Њ–і –±—Л–ї
–њ–ї–∞—В–љ—Л–Љ.
–Э–Њ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є—Е
–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е, –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї, –Є –Љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ "–Ј–∞—В–Ї–љ—Г—В—М" –і—Л—А—Г –≤
—Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ. –ѓ "–Ј–∞—В–Ї–љ—Г–ї" –Є —Г—И—С–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б—Л. –Ш –љ–∞–і–Њ –ґ–µ
–±—Л–ї–Њ —Б–ї—Г—З–Є—В—М—Б—П —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г? –Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–µ–љ—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞...
–Ф–Њ—А–Њ–≥–Є–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є, –љ–µ –њ–∞–і–∞–є—В–µ —Б–Њ —Б—В—Г–ї–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ
–њ–Њ—Б–ї–µ
–Љ–µ–љ—П –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–∞–љ—Б—М–µ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї:
- –Т—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ь–∞–є—П
–У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П.
–£ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–і–Ї–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≥–Є. –Ч–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б–∞–Љ–Є, –ї—С–≥–Ї–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–Њ–є
–Љ–Є–Љ–Њ
–Љ–µ–љ—П –њ—А–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г –Љ–Њ—П –ї—О–±–Њ–≤—М –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є.
–І—В–Њ –њ–µ–ї–∞ –Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П —В–Њ–≥–і–∞ —П –љ–µ —Б–ї—Г—И–∞–ї: —Б–µ—А–і—Ж–µ –Љ–Њ—С
—Б—В—Г—З–∞–ї–Њ,
–Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ї–Њ—В. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Н—В–Њ —В–∞ –ґ–µ —Б–∞–Љ–∞—П –Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –≤–ї—О–±–Є–ї—Б—П –µ—Й—С
–Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Њ–є –њ—А—П–Љ–Њ —Б –Ї–Є–љ–Њ—Н–Ї—А–∞–љ–∞? –Э–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞ -
–Ь–∞–є—П
–У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤—А–µ–Љ—П –≤–Ј—П–ї–Њ —Б–≤–Њ—С, –љ–Њ –Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є —В–∞–Ї–ґ–µ
–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і. –ѓ —Б—В–Њ—П–ї –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б–∞–Љ–Є –Є –ґ–і–∞–ї,
–Ї–Њ–≥–і–∞
–Љ–Њ—П –ї—О–±–Њ–≤—М —О–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В —Б–≤–Њ—С –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –ѓ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –µ–є
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П. –ѓ —Е–Њ—В–µ–ї –µ–є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —Б
–ї–Є—И–љ–Є–Љ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –≤–ї—О–±–Є–ї—Б—П –≤ –љ–µ—С –≤ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–µ
"–Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А".
–Т–Њ—В –Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ—С –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–і –±—Г—А–љ—Л–µ
–∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В—Л –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є —Г—Е–Њ–і–Є—В —Б–Њ —Б—Ж–µ–љ—Л. –Ю–љ–∞ –Є–і—С—В –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Љ–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ј–∞
–Ї—Г–ї–Є—Б—Л.
–Х—С –ї–Є—Ж–Њ –Њ–і—Г—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ, –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б–Є—П—О—В –Њ—В —Г—Б–њ–µ—Е–∞. –Э–µ—В, –≥–ї–∞–Ј–∞ –≥–Њ—А—П—В! –Ю–љ–Є
–Є–Ј–ї—Г—З–∞—О—В –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Г—О —Н–љ–µ—А–≥–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ–ї—М–Ј—П –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є. –Р
–µ—Б–ї–Є –Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В—М, —В–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А —Б–≥–Њ—А–µ–ї –±—Л –Њ—В
–њ–µ—А–µ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є.
–У–ї–∞–Ј–∞ —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ.
–У–ї–∞–Ј–∞ –Є–Љ–µ—О—В —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —А–µ—Б–љ–Є—Ж—Л. –У–ї–∞–Ј–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ, –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ
–≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ. –У—Г–±—Л –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –∞–ї—Л, –≥—Г–±—Л –∞–ї—Л, –Ї–∞–Ї –Ї—А–Њ–≤—М. –У—Г–±—Л –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ
–Њ—З–µ—А—З–µ–љ—Л. –Э–µ—В, –≥—Г–±—Л –Њ—З–µ—А—З–µ–љ—Л –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ! –Э–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –Є–і–µ–∞–ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є
–Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л. –Ш–і–µ–∞–ї –Љ–µ–ї—М–Ї–Њ–Љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї –њ–Њ –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ —З–∞—А—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—И—С–ї
–Љ–Є–Љ–Њ,
–Њ–±–і–∞–≤ –∞—А–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤. –Ш–і–µ–∞–ї —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤ –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г–±–Њ—А–љ–Њ–є.
–Ю—И–∞—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–є,
—П —Б—В–Њ—П–ї, –Ї–∞–Ї –≤–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–є.
–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В —П –њ—А–Є—И—С–ї –≤ —Б–µ–±—П. –° –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є
–њ–Њ–і—Е–Њ–ґ—Г –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А—Г –Є –њ—А–Њ—И—Г –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –Ь–∞–є–µ –У–Њ–ї–Њ–≤–љ–µ.
–Ґ–Њ—В
—Г—Б–Љ–µ—Е–љ—Г–ї—Б—П:
- –І—В–Њ, –Є —В–µ–±—П "–Ј–∞–µ–ї–Њ"?
–ѓ –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї –Є –Ј–∞–Љ—П–Љ–ї–Є–ї, —З—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л –≤–Ј—П—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Г—А–Њ–Ї–Њ–≤
–њ–Њ –≤–Њ–Ї–∞–ї—Г —Г –Ь–∞–є–Є –У–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, - —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—А–∞–љ—М—С. –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Ь–∞–є—П
–У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В. –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Ь–∞–µ—З–Ї–∞ —Г—А–Њ–Ї–Њ–≤
–љ–µ
–і–∞—С—В.
–Ь–µ–љ—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–і—С—А–љ—Г–ї–Њ. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ –њ–Њ—Б–Љ–µ–ї –Ь–∞–є—О –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—О
—В–∞–Ї
–љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М? –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П –Є –Њ–љ –±—Л–ї–Є
–і–∞–≤–љ–Є—И–љ–Є–Љ–Є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—П–Љ–Є, —З—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Љ–µ–љ—П–ї–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —П —Г–ґ —В–∞–Ї –ґ–∞–ґ–і—Г, —В–Њ
–Њ–љ
–њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В –Ь–∞–µ—З–Ї—Г –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є, –Є–±–Њ —П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—О –љ–µ
"–∞—Е",
–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л. –Ь—Л –і–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П, –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤—И–Є—Б—М –≤
–њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ,
–≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є —Г–±–Њ—А–љ–Њ–є. –£ –Љ–Њ–µ–є –ї—О–±–≤–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –≤—Б—С –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ
—В–∞–Ї–Є–Љ,
–Ї–∞–Ї —П –Њ–ґ–Є–і–∞–ї.
–Т—Л—И–ї–∞ –Љ–Є–ї–∞—П, –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П, –љ–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ
—А–∞—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–≤—И–∞—П
–ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤—Л—И–µ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –ї–µ—В. –Т –µ—С –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є
–Њ–і—Г—Е–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ —П –≤–Є–і–µ–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –љ–∞–Ј–∞–і. –Ч–∞—В–Њ –≤ —Н—В–Є—Е
–≥–ї–∞–Ј–∞—Е
—П —Г–≤–Є–і–µ–ї –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В—М, –і–Њ–±—А–Њ—В—Г, –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ—Г—О –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є
–Ј–∞–і—Г—И–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М.
–£–≤–Є–і–µ–≤ –Љ–µ–љ—П —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –Њ–љ–∞ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ,
–±–µ–Ј
–≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–Љ–∞–љ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–є. –Т –Љ–Њ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–∞
–Љ—Л—Б–ї—М: –≤–Њ—В, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –Є—Б—В–Є–љ–љ–∞—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М!
–Ю–љ–∞ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ —А—Г–Ї—Г –Є
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М:
- –Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П. –Я–µ–≤–Є—Ж–∞.
–ѓ —А–∞—Б—В—А–Њ–≥–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї –µ—С —А—Г–Ї—Г. –Ф–∞–ї–µ–µ –Њ–љ–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –і–ї—П
–Љ–µ–љ—П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞:
- –Р—А–Ї–∞—И–µ–љ—М–Ї–∞, –њ–µ—Б–љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –±–∞—А–і–∞ —П –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї–∞
–њ–µ—А–µ–і
—Б–≤–Њ–Є–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є. –Я—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–µ –Є
—В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ. –Ш —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ,
—З—В–Њ –Њ–љ–Є –Є–і—Г—В –Њ—В –і—Г—И–Є. –С–µ—А–Є –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤–∞... - –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞, –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П, - –≤ –Љ–Њ–Є
–Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ
—Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А—Г –Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ. –Э–µ –±–µ—А–Є —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Є
—Д–Њ–Ї—Г—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, - –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Є—Е –Љ–љ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є—В—М
—Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є.
–Т–Њ—В —В–∞–Ї, –≤ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г —П —Б—В–∞–ї –љ–∞–њ–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є
–∞—А—В–Є—Б—В–Ї–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –°—З–∞—Б—В—М—О –Љ–Њ–µ–Љ—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞. –ѓ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥
–≤–Є–і–µ—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О –Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Г—О –∞—А—В–Є—Б—В–Ї—Г –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г, –љ–Њ –Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Б –љ–µ–є –љ–∞
–Њ–і–љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ, —З–µ–Љ –Є–Љ–µ—О –њ—А–∞–≤–Њ –≥–Њ—А–і–Є—В—М—Б—П.
–ѓ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–≤–Њ—О –≥–Є—В–∞—А—Г –Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞–≤–Є—И–љ–Є–Ї–∞
–Т–Є—В–∞–ї–Є—П –І–µ—В–≤–µ—А–Є–Ї–Њ–≤–∞. –Ь—Л –њ–Њ–і –µ–≥–Њ "–ѓ–Љ–∞—Е—Г" –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –≤–µ—Б—М –Љ–Њ–є
—А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А
—Б –≥–Є—В–∞—А—Л –љ–∞ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞—В–Њ—А. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г–і–∞—З–љ–Њ –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –∞—А–∞–љ–ґ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Љ–Њ—О
–њ–µ—Б–љ—О "–†—Г—Б—М",
–њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–≤—И—Г—О—Б—П –Ь–∞–є–µ –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П:
–†—Г—Б—М
–Я–Њ—Б–≤. –Ь–∞–є–µ –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П.
 –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –ї–∞–і–∞–љ, –С–Њ–≥
–Љ–∞–ї—С–≤–∞–љ–љ—Л–є,
–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –ї–∞–і–∞–љ, –С–Њ–≥
–Љ–∞–ї—С–≤–∞–љ–љ—Л–є,
–Ґ—Г—Б–Ї–ї—Л–є –љ–Є–Љ–±–∞ –Њ—А–µ–Њ–ї.
–Ъ—А–µ—Б—В
–і–Њ
–±–ї–µ—Б–Ї–∞ –Ј–∞—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є,
–Я–∞—Б—В–≤–∞ –±—М—С—В —З–µ–ї–Њ–Љ –Њ–±
–њ–Њ–ї.
–°—К—С–ґ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ї—Г–њ–µ–ї–Є
–Ї—А–Њ—И–µ—З–Ї–∞.
–°–ї—С–Ј—Л, –њ–ї–∞—З—М, —Б–≤—П—В–Њ–є
–Њ–±—А—П–і.
–°–Њ–ї–љ—Ж–∞ —Б–љ–Њ–њ –±—М—С—В –Є–Ј
–Њ–Ї–Њ—И–µ—З–Ї–∞,
–Ю—Б–ї–µ–њ–ї—П—П –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і.
–Ф—А—П—Е–ї—Л–є —Б—В–∞—А–µ—Ж –Љ–Њ–ї–Є—В
–≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞
–Ф–∞—В—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П, –і–Њ–ї–≥–Є—Е
–ї–µ—В,
–Ф–∞ –њ–Њ–µ—Б—В—М, —Е–Њ—В—М —А–∞–Ј –±—Л –і–Њ—Б—Л—В–∞, -
–Э–µ —Б–µ–±–µ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–Є—В, –љ–µ—В.
–Ь–∞–є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ—П.
–°—Л–љ—Г, –≤—Б–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–µ—Ж—Г,
–Ф–Њ—З–Ї–µ, —З—В–Њ –ї–µ–ґ–Є—В –≤ –±—А–µ–і—Г:
"–Я—А–Њ–≥–Њ–љ–Є
—Б–Љ–µ—А—В—М –ї–Є—Е–Њ–Є–Љ–Є—Ж—Г,
–Ю—В–≤–µ–і–Є —А—Г–Ї–Њ–є –±–µ–і—Г".
–Ъ –∞–ї—В–∞—А—О —Б–≤–Њ—О
–Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Є—Ж—Г
–Я–Њ–і –≤–µ–љ–µ—Ж –ґ–µ–љ–Є—Е –≤–µ–і—С—В.
–°–Ї–Њ—А–Њ –і–Є–≤–љ—Г—О –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж—Г
–Ю–љ –ґ–µ–љ–Њ—О –љ–∞–Ј–Њ–≤—С—В.
–С—Г–і—М —В–Њ –Ї–љ—П–Ј—М, –Љ—Г–ґ–Є–Ї
–Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–є,
–Ч–≤–∞–љ—М—П –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–µ
–љ—Г–ґ–љ—Л.
–•–Њ—В—М —Б–∞–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї
—В–Є—В—Г–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є,
–Я–µ—А–µ–і
–С–Њ–≥–Њ–Љ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ—Л.
–†—Г—Б—М —Б–≤—П—В–∞—П! –Т–µ—З–љ–Њ
—В—С–Љ–љ–∞—П.
–Ь–љ–Њ–≥–Њ —В—Л —А–Њ–љ—П–ї–∞ —Б–ї—С–Ј.
–Т—Б—П —Б—В—А–∞–і–∞–љ—М–µ–Љ
–Є—Б–њ–µ—Й—А—С–љ–љ–∞—П,
–Ґ–≤–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і –≤—Б—С
–њ–µ—А–µ–љ—С—Б.
–Ґ–∞–Ї –ґ–Є–≤–Є –≤
–≤–µ–Ї–∞—Е,
–њ—А–Є–≤–Њ–ї—М–љ–∞—П!
–®–Є—А—М—Б—П,
–Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–є!
–Ґ—Л –Є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М, —В—Л –Є –±–Њ–ї—М –Љ–Њ—П.
–Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є,
—А–Њ–і–Є–Љ—Л–є
–Ї—А–∞–є!
–Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є
—Д–Њ—В–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В
–Т –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Љ–љ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Є–Љ–µ—В—М —Б–≤–Њ–є
—Д–Њ—В–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В. –Ц–Є–ї–Є –Љ—Л –≤ –љ–Є—Й–µ—В–µ: –Њ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ї—Г–њ–Ї–µ –Є –Љ–µ—З—В–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ.
–Э–Њ, –≥–Њ–ї—М
–љ–∞ –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Є —Е–Є—В—А–∞. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —П –±—Л–ї —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, - –љ–µ –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г, -
–≤—Л—Б–Њ–Ї –Є "–Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–Є—Б—В", —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї "–Ї–∞—З–∞–ї—Б—П". –Я—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –Ґ–Њ–ї—П
–¶–∞—А—С–≤.
–Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Н—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ —Б –µ–≥–Њ —Б–∞—А–∞–µ–Љ. –Ш —П –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї: —А–∞–Ј —Г–ґ —П —Б—В–∞–ї —В–∞–Ї–Є–Љ
—Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ,
—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–є—В–Є –ї–Є –Љ–љ–µ –љ–∞ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ?
–Р–≤—В–Њ—А "–Ї–∞—З–∞–µ—В—Б—П".
–У—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є. –Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —П,
–Ї–∞–Ї
–Є –≤—Б–µ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Є, –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –і–µ–љ–µ–ґ–Ї—Г –≤ —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј–µ, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –љ–∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ї–µ,
–љ–Њ
—Н—В–Њ –±—Л–ї –Љ–Є–Ј–µ—А–љ—Л–є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–љ–Њ –≤—Б—В–∞–≤–∞—В—М, –µ—Е–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–µ, –Є, –љ–µ —А–∞–Ј–≥–Є–±–∞—П—Б—М, –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –њ–Њ–ї–Њ—В—М –і–ї–Є–љ–љ—О—Й–Є–µ,
–±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ –≥—А—П–і–Ї–Є —Б –Љ–Њ—А–Ї–Њ–≤–Ї–Њ–є, —Б–≤—С–Ї–ї–Њ–є. –У—А—П–і–Ї–Є –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є, —З—В–Њ
—Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –±–Њ—В–≤–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –±—Л–ї–∞ –≤ 20-—В—М —Б–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В—А–Њ–≤, –∞
—Б–Њ—А–љ—П–Ї–Є –њ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ. –°–Њ—А–љ—П–Ї–Є —В–∞–Ї –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ –њ–Њ—З–≤–µ, —З—В–Њ –љ–∞–і—С—А–≥–∞–µ—И—М—Б—П –Ј–∞
–і–µ–љ—М
–і–Њ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –†—Г–Ї–Є –≤ –Љ–Њ–Ј–Њ–ї—П—Е, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–ї—П–љ–µ—И—М –љ–∞ –љ–Є—Е, –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П
–і–µ–љ–µ–≥,
—В–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—И—М: –Ј–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є, –і–∞ —В–∞–Ї–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–∞—П –±–Њ–ї—М! –Ф–∞ –љ—Г –Є—Е, —Н—В–Є—Е
—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ч–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –≥—А–Њ—И–Є –њ—Г—Б—В—М —Б–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –Њ—З–µ–љ—М –љ—Г–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є. –Э—Г, –Њ—З–µ–љ—М! –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Є
–≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞
–Є–і–µ—П –њ–Њ–і—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –і–µ–љ–µ–ґ–Ї—Г –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ—И—С–ї –љ–∞ —Б–Ї–ї–∞–і-–±–∞–Ј—Г,
–±–ї–∞–≥–Њ
–±—Л–ї–Њ –ї–µ—В–Њ, –Є —П –±—Л–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ. –Э–∞ –±–∞–Ј–µ, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—В–і–µ–ї–∞
–Ї–∞–і—А–Њ–≤ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
- –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї, —В–µ–±–µ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В?
–ѓ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ 18-—В—М. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—А–∞—В—М, –Є–љ–∞—З–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г—В.
–Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Љ–µ–љ—П –µ—Й—С —А–∞–Ј —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ,
–њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞–ї –Љ–Њ–Є —В–Њ–љ–µ–љ—М–Ї–Є–µ, –љ–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —А—Г—З–Ї–Є, –њ–Њ—З–µ—Б–∞–ї –ї—Л—Б–Є–љ—Г –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ
—А–∞–Ј–і—Г–Љ—М—П —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
- –Р –њ—Г–њ–Њ–Ї —Г —В–µ–±—П –љ–µ —А–∞–Ј–≤—П–ґ–µ—В—Б—П?... –Э—Г, –њ–Њ–є–і—С–Љ –Ї –љ–∞—И–Є–Љ
—А–∞–±–Њ—В—П–≥–∞–Љ, - –љ–∞–і–Њ —В–µ–±—П –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М.
–Я–Њ—И–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞–±–Њ—В. –Я–Њ–і—Е–Њ–і–Є–Љ –Ї –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ
–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є
—П—Й–Є–Ї–Є –Є –Љ–µ—И–Ї–Є –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–Є—В –Љ–µ–љ—П –Ї –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А—Г –Є
–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:
- –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З, –і–∞–є-–Ї–∞ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ї–Њ–ї—Г —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞
–њ—А–Њ–±—Г.
–С—А–Є–≥–∞–і–Є—А –±—Л–ї –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ, –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–Њ–є
—Б—А–µ–і–љ–Є—Е
–ї–µ—В. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—Б–Њ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ
—А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї —Б
–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–і—А–Њ–≤, —В–Њ –Њ–і–Є–љ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –≥–ї–∞–Ј —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї
–љ–∞
–Љ–µ–љ—П. –°–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –∞
—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —В–µ–±—П. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, –Љ–µ–љ—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–Љ—Г—Й–∞–≤—И–µ–µ.
–С—А–Є–≥–∞–і–Є—А, –Љ–Њ–ї—З–∞, –њ–Њ–і–≤—С–ї –Љ–µ–љ—П –Ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ—Г –±–Њ—З–Њ–љ–Ї—Г –Є
—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї,
—З—В–Њ–±—Л —П –Њ—В–љ—С—Б –µ–≥–Њ –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ. –ѓ –Ј–∞—Г–ї—Л–±–∞–ї—Б—П, - —З–µ–≥–Њ —В–∞–Љ –љ–µ—Б—В–Є? –Э–µ—В –ї–Є —З–µ–≥–Њ
–њ–Њ—В—П–ґ–µ–ї–µ–µ? –Э–Њ –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї. –ѓ –ї–Є—Е–Њ –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї –±–Њ—З–Њ–љ–Ї—Г, —Г—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П –Ј–∞
–љ–µ–≥–Њ –Є...
–С–Њ—З–Њ–љ–Њ–Ї –≤—Л—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞–ї –Є–Ј —А—Г–Ї, –љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –ѓ —Б–Љ—Г—В–Є–ї—Б—П:
- –І—В–Њ —В–∞–Љ? –У–≤–Њ–Ј–і–Є?
- –Ф–∞ –љ–µ—В, -
–Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А, - –Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –Є–Ї—А–∞.
–Ю–љ "–Њ–і–љ–Њ–є
–ї–µ–≤–Њ–є" –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –±–Њ—З–Њ–љ–Њ–Ї, –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–ї –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Њ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —П —Б–Љ–Њ–≥
–Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –±–Њ—З–Њ–љ–Њ–Ї –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ.
–Ґ–∞–Ї —П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–і–Њ–≤–Њ–ї—М "–љ–∞–µ–ї—Б—П" –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Є–Ї—А—Л.
- –Э–Є—З–µ–≥–Њ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г, - –њ–∞—А–љ–Є—И–Ї–∞
–Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ –≥–ї–∞–Ј –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –љ–∞
–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–≤.
–Ш —П –≤–ї–Є–ї—Б—П –≤ –і—А—Г–ґ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е
–≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Њ–≤.
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–µ–љ—П –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А –ґ–∞–ї–µ–ї –Є –і–∞–≤–∞–ї —Б–∞–Љ—Л–µ –ї—С–≥–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї —П —Б
–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ
—Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ: –Њ—В –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ —П –љ–µ —И—С–ї –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ, –∞ –±–µ–ґ–∞–ї. –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З –Љ–µ–љ—П
–њ—А–Є—В–Њ—А–Љ–∞–ґ–Є–≤–∞–ї:
- –Э–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—Б—М, —Б–Њ–Ї–Њ–ї —В—Л –љ–∞—И –±—Л—Б—В—А–Њ–Ї—А—Л–ї—Л–є. –Т—Б—О —А–∞–±–Њ—В—Г
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞
–љ–µ –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–µ—И—М.
–Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ: –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –≤–∞–≥–Њ–љ –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Є–Љ, —В–∞–Ї —В—Г—В
–ґ–µ
–љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≥—А—Г–Ј–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є. –Э–Њ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї–∞—Б—М. –Т—Б–µ —А–∞—Б—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞
—П—Й–Є–Ї–Є –Є –Љ–µ—И–Ї–Є, –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б—Л –Є –Ї—Г—А–Є–ї–Є, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –і—Л—И–∞: —А–∞–±–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –Є–Ј
–ї—С–≥–Ї–Є—Е. –Я–µ—А–µ–Ї—Г—А –і–ї–Є–ї—Б—П –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Є –Љ–Є–љ—Г—В. –Э–∞—Б –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ
–њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П–ї, -
–њ—А–Њ—Б—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М.
–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Є—В—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ —Г–њ–∞–Ї–Њ–≤–Ї–Є —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ
–Є
—В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –≤–Є—В—А–Є–љ–љ—Л–Љ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–Љ. –Ф–≤–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–њ–∞–Ї–µ—В –Є –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є
–µ–≥–Њ
–љ–∞ —Б–њ–Є–љ—Л –і–≤—Г—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ, –љ–∞ "–њ–Њ–ї—Г—Б–Њ–≥–љ—Г—В—Л—Е", –љ–µ—Б–ї–Є –Є—Е –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ.
–Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ–Ї—Г—А–∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —В–Њ,
—З—В–Њ
—Б—В–µ–Ї–ї–Њ–њ–∞–Ї–µ—В—Л —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї—Л.
–Э–Њ, –љ–∞—И—С–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ —Й—Г–њ–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, –љ–Њ –ґ–Є–ї–Є—Б—В—Л–є –Љ—Г–ґ–Є—З–Є—И–Ї–∞,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є
—Б –≥–Њ–љ–Њ—А–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–і–Є–љ –Њ—В–љ–µ—Б—С—В —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–њ–∞–Ї–µ—В. –У—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Є –њ–Њ–±—А–Њ—Б–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є
–љ–µ–і–Њ–Ї—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б—Л, –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–∞ —Б–њ–Є–љ—Г —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–њ–∞–Ї–µ—В, –Є –Љ—Г–ґ–Є—З–Є—И–Ї–∞, —Б–Њ–њ—П
–Є
–њ–Њ—И–∞—В—Л–≤–∞—П—Б—М, –њ–Њ–љ—С—Б —Б—В–µ–Ї–ї–Њ–њ–∞–Ї–µ—В.
–С—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Ы–Є—Ж–Њ –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї–Њ, –љ–∞ —И–µ–µ
–≤–Ј–і—Г–ї–Є—Б—М –≤–µ–љ—Л, –і–∞ —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ–Є –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –ї–Њ–њ–љ—Г—В. –Х–ї–µ-–µ–ї–µ, –љ–Њ
–Њ–љ
–≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –і–Њ–љ—С—Б —Б–≤–Њ—О –љ–Њ—И—Г –і–Њ –≤–∞–≥–Њ–љ–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –Њ—В–і—Г–≤–∞–ї—Б—П. –Т—Б–µ —Б
–Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї–Є, –∞ –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
- –Т–∞—Б–Є–ї—С–Ї, –љ—Г –Є –і—Г—А–∞–Ї –ґ–µ —В—Л! –Ч–∞—З–µ–Љ –Ї–Є—И–Ї—Г —А–≤–∞—В—М? –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–Є
–љ–∞–і–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П. –Ф—Г—А–∞—Ж–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–µ —Е–Є—В—А–Њ–µ.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–і–Є–љ –≥–ї–∞–Ј –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П, –∞ –і—А—Г–≥–Њ–є
–љ–∞
–Љ–µ–љ—П.
–Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —В—П–ґ–µ—Б—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–љ—П –≤–Њ–і–Њ—З–Ї–Њ–є,
–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—З—В–Є –≤ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є –±—Л–ї–∞ "—Б–≤–Њ—П". –°–Ї–ї–∞–і –±—Л–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–Љ,
–љ–Њ
–Є –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ї–Њ—А–Њ—З–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М - –±–Њ—З–Ї–Є —Б –Є–Ї—А–Њ–є –±—Л–ї–Є
–Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л.
–ѓ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ—М—И–µ
–≤—Б–µ—Е, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞—В—М. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –µ—Й—С "–љ–Є–Ј–µ–љ—М–Ї–Њ", –∞ —П —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ
–Љ–µ—Б—В–µ —Г —Н—Б—В–∞–Ї–∞–і—Л.
- –Ю, —Б–Њ–Ї–Њ–ї –љ–∞—И –±—Л—Б—В—А–Њ–Ї—А—Л–ї—Л–є —Г–ґ–µ –ґ–і—С—В –љ–∞—Б, - –≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї
–±—А–Є–≥–∞–і–Є—А –≤—Б–µ–Љ –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≥—Г—А—В–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л. –Я–Њ—А–∞ –Є
–њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л, –Љ–Є–ї–Њ–Ї, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї
–°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З –Љ–љ–µ —В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ, - –љ–µ "–≥–Њ–љ–Є –≥–Њ—А—П—З–Ї—Г", –і–∞ –Ј–∞ —В—П–ґ—С–ї—Л–µ —П—Й–Є–Ї–Є
–љ–µ
—Е–≤–∞—В–∞–є—Б—П. –Х—Й—С —Г—Б–њ–µ–µ—В—Б—П —В–µ–±–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ–≤–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—В—М.
–Ъ–∞–Ї –±—Л–ї –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤–Њ –њ—А–∞–≤ –Љ—Г–і—А—Л–є –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З. –Я–Њ–≤–Ї–∞–ї—Л–∞—В—М
–њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М
–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ. –Р —П –µ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞–ї–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї –Є –љ–Њ—А–Њ–≤–Є–ї
–≤—Б—С
–≤—А–µ–Љ—П —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М —П—Й–Є–Ї –њ–Њ—В—П–ґ–µ–ї–µ–µ.
–Ь–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ –±—Л–ї —В–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї, —З—В–Њ —П –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї:
–Ї–Њ–≥–і–∞
–ґ–µ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ? –Ш –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л
–њ—А–Є—Е–Њ–ґ—Г
–љ–∞ –±–∞–Ј—Г –љ–Є —Б–≤–µ—В, –љ–Є –Ј–∞—А—П, –∞ –±–∞–Ј–∞ –љ–∞ –Ј–∞–Љ–Ї–µ –Є –≤ –љ–µ–є –љ–Є –і—Г—И–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ
–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Є–Ї–∞.
- –Т —З—С–Љ –і–µ–ї–Њ? - —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О —П –≤ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–Є.
–Р –Њ—Е—А–∞–љ–љ–Є–Ї
–Љ–љ–µ
–Є –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В:
- –Ф–∞ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –Ґ—Л —З—В–Њ, —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –њ–Њ
–≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М—П–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –і–µ–љ—М?
–Ґ–∞–Ї —П —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П —Ж–µ–ї—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є –∞–≤–∞–љ—Б, –Є –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Г,
–љ–Њ
–љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ. –Ф–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –±—Л–ї –µ—Й—С –Љ–µ—Б—П—Ж, –љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ
–і–µ–љ–µ–≥
–љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В. –Ш —В—Г—В –њ—А–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –Њ–±–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Њ—Б—М. –Э–∞–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –±—А–Є–≥–∞–і–∞ –і–ї—П
—А–∞–±–Њ—В
–љ–∞ –њ–Њ–і–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і. –Т—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Є–µ —Б—Г—В–Њ—З–љ—Л–µ –Є –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є
–Њ–Ї–ї–∞–і. –£—А–∞! –ѓ —Б—В–∞–ї —Г–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М
–°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З–∞
–≤–Ј—П—В—М –Љ–µ–љ—П –≤ –±—А–Є–≥–∞–і—Г. –Ґ–Њ—В –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –≥–ї–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–∞
–Т–∞—Б–Є–ї–Є—П,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г, –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
- –Я–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–∞. –≠—В–Њ —В–µ–±–µ –љ–µ
—П—Й–Є–Ї–Є
–≥—А—Г–Ј–Є—В—М.
–ѓ –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, –Ї–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, - –Љ–љ–µ –Є–ї–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—О.
–Ъ–∞–Ї–Њ–є
–≥–ї–∞–Ј —Г –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З–∞ –±—Л–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Е–Њ—В—М —П –Є –њ—Л—В–∞–ї—Б—П
—Н—В–Њ
–њ–Њ–љ—П—В—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М. –Э–Њ, —Б–ї–∞–≤–∞ –±–Њ–≥—Г, –љ–∞—Б –Њ–±–Њ–Є—Е —Б –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ,
—З—В–Њ
—Г –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З–∞ –Њ–±–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –±—Л–ї–Є —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ–Є.
–Я—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –љ–∞—Б –љ–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і, –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –ґ–Є—В—М –≤ –±–∞—А–∞–Ї.
–Ю–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–∞ –љ–∞ 20-—В—М –Ї–Њ–µ–Ї. –Т—Б—С –±—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –љ–Њ –Љ—Г—Е —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М
–љ–Є—Е
–µ—Б–ї–Є –Є —Г–≤–Є–і–Є—И—М –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї—Г –љ–∞ –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–µ, —В–Њ —Г —В–µ–±—П —Б–Њ –Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б—С –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ.
–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –љ–∞—И–µ–Љ—Г –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А—Г –≤–Є–і–µ–ї–Њ—Б—М –Љ—Г—Е –≤ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, –≤–µ–і—М –µ–≥–Њ –Ј—А–µ–љ–Є–µ
–љ–µ
–±—Л–ї–Њ —Б—Д–Њ–Ї—Г—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П:
- –Т—Б–µ –Њ–Ї–љ–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, - –љ–∞–≥–ї—Г—Е–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М. –Т—Б–µ–Љ –≤–Ј—П—В—М
–њ—А–Њ—Б—В—Л–љ–Є –Є –≥–љ–∞—В—М –Љ—Г—Е –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ. –Ь—Л —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –Љ–∞—Е–∞—В—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ—П–Љ–Є.
–Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Љ—Г—Е–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–≥–љ–∞–љ—Л –≤–Њ–љ, –∞ –Њ–Ї–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ. –Э–Њ, —В–µ–њ–µ—А—М –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г —Б
—Г–ї–Є—Ж—Л
–љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї —И—Г—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —Б –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–∞ –њ–∞–і–∞–ї–Є –Љ—Г—И–Є–љ—Л–µ
"–ї–Є–њ—Г—З–Ї–Є"
–Њ—В –≥—А–Њ—Е–Њ—В–∞ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ—Л–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –і–≤–µ—А–Є. –Э–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—П –Њ—В –Љ—Г—Е –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ш—Е
—Б—В–∞–ї–Њ
–Љ–µ–љ—М—И–µ, –љ–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –ї–Є—Ж–Њ, —А—Г–Ї–Є –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Љ–∞—Б—Б—Г
–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–∞.
–Я—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ—О
–љ–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Ї–Є—А–њ–Є—З–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–є –і–ї–Є–љ—Л, —З—В–Њ –Ј–∞–є–і—П –≤ –Њ–і–Є–љ –µ–≥–Њ —В–Њ—А–µ—Ж, –≤—Л—Е–Њ–і–∞ —Б
–і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–Є–і–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т–і–Њ–ї—М –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –±—Л–ї –љ–µ—И–Є—А–Њ–Ї–Є–є
–њ—А–Њ—Е–Њ–і, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —А–µ–ї—М—Б—Л –і–ї—П –≤–∞–≥–Њ–љ–µ—В–Њ–Ї, –∞ –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ –і—Л—И–∞–ї–Є –Њ–≥–љ—С–Љ
–±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ –њ–µ—З–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ—А–µ–ї —Г–≥–Њ–ї—М, –Њ–±–ґ–Є–≥–∞—О—Й–Є–є –≥–ї–Є–љ—Г, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є
–і–µ–ї–∞–ї—Б—П
–Ї–Є—А–њ–Є—З. –Ш–Ј –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ —З–µ—А–љ–Њ—А–∞–±–Њ—З–Є–µ –љ–∞ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ—В–Ї–∞—Е –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –Њ–≥–љ–µ–і—Л—И–∞—Й–Є–µ
—А–∞—Б–Ї–∞–ї—С–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–µ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г. –≠—В–Є –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є –і–Њ–ї–≥–Њ –Њ—Б—В—Л–≤–∞–ї–Є. –Т –љ–∞—И—Г
–Ј–∞–і–∞—З—Г
–≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≥—А—Г–Ј–Є—В—М –Њ—Б—В—Л–≤—И–Є–µ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ—Л.
–Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї. –†–∞–±–Њ—З–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –≤–∞–≥–Њ–љ–µ—В–Ї–µ –Є –±—А–∞–ї
—Б
–њ–Њ–і–і–Њ–љ–∞ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥. –≠—В–Њ—В –њ—А–Є—С–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П: –≤–Ј—П—В—М
"–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї—Г".
–Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ґ–Є–Љ–∞—В—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є "–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї—Г" –Є–Ј –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є
—В–∞–Ї,
—З—В–Њ–±—Л –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є –љ—Г —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М. –Ф–∞–ї–µ–µ "–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї–∞" —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥—А—Г–і—М. –Т—Б–µ–≥–Њ
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є —Г–ґ–µ –≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ. –Ш –≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ? –Ф–∞, –≤—Б–µ–≥–Њ. –Э–Њ, –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г
—А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ
–і–љ—П —А—Г–Ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–і–љ–µ—Б—В–Є –ї–Њ–ґ–Ї—Г –Ї–Њ —А—В—Г, –∞ –≥—А—Г–і—М –≥–Њ—А–µ–ї–∞, –±—Г–і—В–Њ –µ—С
–љ–∞—В—С—А–ї–Є
–њ–µ—А—Ж–µ–Љ.
–Ч–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е
—А–∞–±–Њ—В–∞—Е,
–±—А–∞–ї–Є "–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї—Г" –Є–Ј 15-20-—В–Є –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–Њ. –С–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ—Е
–±—А–∞–ї
–Ј–∞ —А–∞–Ј –љ–∞—И –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ —Г—Е–Є—В—А—П–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–≤–Њ–є–љ—Л–Љ –Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–є—В–Є –њ—Г—В—М –Ї
–≤–∞–≥–Њ–љ—Г, —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О, –љ–Њ —Н—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є—Е–Њ.
–С—А–Є–≥–∞–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, –≤–µ—Б—М —А–∞–±–Њ—З–Є–є –і–µ–љ—М, —Б
–љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–Ї—Г—А–∞–Љ–Є. –ѓ –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –≥–Њ—А—П—З–Є–ї—Б—П –Є —Е–≤–∞—В–∞–ї "–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї—Г" —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ
—Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —А—Г–Ї. –Э–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Є –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї—Л. –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є—Б—В—А—Г–љ–Є–≤–∞–ї, –≥–ї—П–і—П
—В–Њ
–ї–Є –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, —В–Њ –ї–Є –љ–∞ –≥–Њ—А—Л –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є, - –њ–Њ–љ—П—В—М –±—Л–ї–Њ
–љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ:
- –°—Л–љ–Њ–Ї, –љ–µ –ґ–∞–і–љ–Є—З–∞–є! –Э–µ –±–µ—А–Є —Б –љ–∞—Б –њ—А–Є–Љ–µ—А. –Ь—Л –љ–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ
–љ–µ
–њ–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ–і –Є –њ–Њ–Њ–±–≤—Л–Ї–ї–Є—Б—М. –Р —В—Л –µ—Й—С –Љ–∞–ї–µ—Ж. –Ъ–∞–Ї –±—Л –љ–µ –љ–∞–і–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П. –Я–Њ–Њ—Б—В—Л–љ—М.
–Ю—В–і–Њ—Е–љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –±–µ—А–Є "–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї—Г" –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ.
- –Э–Њ —П –±—Л–ї –≥–Њ—А—П—З–µ–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ–Њ—Б—В—Л–≤—И–Є–є –Ї–Є—А–њ–Є—З, –Є —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –љ–µ
–Њ—В—Б—В–∞–≤–∞—В—М –Њ—В –≤—Б–µ—Е. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г–і–∞ –Љ–љ–µ –і–Њ –љ–Є—Е? –Ю–љ–Є —Б —Г—В—А–∞ –Є –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –±—А–∞–ї–Є –љ–∞
–≥—А—Г–і—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є, - –Ї—В–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥, - –∞ —П —Б
–Ї–∞–ґ–і—Л–Љ —З–∞—Б–Њ–Љ –≤—Б—С –Љ–µ–љ—М—И–µ –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г —Б–Љ–µ–љ—Л —П, –≤—Л—Б—Г–љ—Г–≤ —П–Ј—Л–Ї –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤
–µ–≥–Њ
–љ–∞ —В—С–њ–ї—Л–є –Ї–Є—А–њ–Є—З, - –Є–±–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–∞ –≤–µ—Б—Г –і–∞–ґ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ
—В—А—Г–і–љ–Њ, -
–љ—С—Б "–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї—Г" –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Ј 5-—В–Є –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є. –Э–Њ —З—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ: –њ–ї–∞—В–Є–ї–Є
–Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г
–≤ –±—А–Є–≥–∞–і–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л "–≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї–Є".
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –Ј–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–љ–µ–≥, —З—В–Њ –Љ–љ–µ
—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Є—Е, —З—В–Њ–±—Л –Ї—Г–њ–Є—В—М –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Є–є —Д–Њ—В–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В "–Ч–Њ—А–Ї–Є–є". –Т—Б—С –ґ–µ
–°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З,
–њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –±—Л–ї –Ј–Њ—А—З–µ, —З–µ–Љ —П –і—Г–Љ–∞–ї. –Ш –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Д–Њ—В–Њ–∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –Ї–∞–Ї
–љ–µ–ї—М–Ј—П
—В–Њ—З–љ–µ–µ —Н—В–Њ –Є –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Њ.
–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤ —А—Г–Ї–Є —В–∞–Ї—Г—О –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М, —П —Б—В–∞–ї —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М
–≤—Б—С –њ–Њ–і—А—П–і —Б–≤–Њ–Є–Љ "–Ч–Њ—А–Ї–Є–Љ" –њ—А—П–Љ–Њ –Є –Ї–Њ—Б–Њ. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞
–Љ–Є—А –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З. –ѓ –њ–µ—А–µ—Б–љ—П–ї –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Њ–Є—Е
—Б–Њ—Б–µ–і–µ–є –Є –і—А—Г–Ј–µ–є, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —З–∞—Б—В—М —Н—В–Є—Е —Б–љ–Є–Љ–Ї–Њ–≤ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–∞. –Т–Њ—В –Њ–і–Є–љ
–Є–Ј
—Н—В–Є—Е —Б–љ–Є–Љ–Ї–Њ–≤:
–°–Њ—Б–µ–і–Ї–∞ –†–Є–Љ–Љ–∞.
–Я–∞–Љ—П—В—М
–Ы–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М,
–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М,
–°–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –і–∞—В—М –Ы—О–±–Њ–≤—М –Є
–Ь–Є—А.
–Я–Њ–і–≤–Є–≥–љ–µ–Љ —Н—В–Њ –≤
–±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М,
–Ш –љ–∞—Б –≤–Њ–Ј–≤—Л—Б—П—В –Ј–≤—Г–Ї–Є
–ї–Є—А.
–£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –≤–µ—Й—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М. –Х—Й—С —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ
—Б–∞–Љ–∞
–Љ—Л—Б–ї—М. –І—В–Њ –≤—Б—С —Н—В–Њ? –Ю—В–Ї—Г–і–∞ —Н—В–Њ –±–µ—А—С—В—Б—П –Є –Ї—Г–і–∞ —Г–є–і—С—В –≤ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —З–∞—Б?
–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї—О–і–Є –ґ–Є–≤—Г—В –і–Њ —Б—В–∞ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В –Є –њ–Њ–Љ–љ—П—В –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ
—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Љ–Њ–Ј–≥—Г —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –Њ—Б—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ,
–Њ–±–Њ–љ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П? –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–∞–Љ—П—В—М, –і–∞ –Є —Б–∞–Љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М? –Ь–µ–љ—П —Н—В–Њ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Я–ї–Њ–і–Њ–Љ
—Н—В–Є—Е
—А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є, –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є –ї–µ—В, —П–≤–Є–ї—Б—П –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є –љ–∞–±—А–Њ—Б–Њ–Ї:
–Ф—Г–Љ—Л
–Ф—Г–Љ—Л, –і—Г–Љ—Л. –Т–µ—З–љ–Њ –і—Г–Љ—Л.
–Ф—Г–Љ—Л, –і—Г–Љ—Л –±–µ–Ј –ї–Є—Ж–∞.
–Ф—Г–Љ—Л, –і—Г–Љ—Л, –≤—Л –Љ–љ–µ
–Ї—Г–Љ—Л.
–Ф—Г–Љ—Л, –і—Г–Љ—Л, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞.
–Ъ—В–Њ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –≤–∞—Б,
–і—Г–Љ—Л-–≤–µ—З–љ—Л?
–Ґ—А—Г–і–µ–љ –±—Л–ї –≤–∞—И –њ—Г—В—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ?
–Ъ–∞–Ї —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л
–±–µ—Б–њ–µ—З–љ—Л.
–Т—Л –Љ–Њ–Є, –Є–ї—М –≤—Л –Є–Ј–≤–љ–µ?
–І–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —П –ґ–Є–≤—Г –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ, —В–µ–Љ –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ –Є
–±–Њ–ї–µ–µ –Љ–µ–љ—П –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–µ—В —Б–∞–Љ–∞ —Б—Г—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ!
–Ъ–∞–Ї–Є–Љ
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Љ—Л –Љ—Л—Б–ї–Є–Љ? –І—В–Њ –і–≤–Є–ґ–µ—В –љ–∞—И–Є–Љ —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ? –Ь—Л —Б–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤—С–Љ –Є –Љ—Л—Б–ї–Є–Љ, –Є–ї–Є
—П–≤–ї—П–µ–Љ—Б—П –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є? –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –љ–∞—И–µ –њ—А–µ–і–љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є–µ? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Љ—Л
–≤—Б–µ–≥–Њ
–ї–Є—И—М –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї–Є, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–љ–∞—П –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б—М –Є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М? –Ь–µ–љ—П —Н—В–Є
–≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –Љ—Г—З–∞—В.
–Ь–Њ–є
—А–∞–Ј—Г–Љ
–Э–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤ —Б–њ–Њ—А–µ –Љ–Њ–≥ —Б —Б—Г–і—М–±–Њ—О
–≤–Ј–і–Њ—А–љ–Њ–є
–°–≤–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ –±—Г–є–љ—Л–є —В–Є—Е–Њ
—Г—Б–Љ–Є—А–Є—В—М.
–Ю–љ —А–≤—С—В—Б—П –≤–≤—Л—Б—М "–У–ї–∞–≤–Њ—О
–љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ–є",
–Х–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –Ј–∞ —Н—В–Њ
—Г–Ї–Њ—А–Є—В—М.
–Ю, —В—Л, –Љ–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ, –њ—Л–ї–Ї–Є–є, —З—Г—В–Ї–Є–є,
–і–Њ–±—А—Л–є.
–Ґ–µ–±–µ –і—Г—А–љ—Л—Е —П —Б–ї–Њ–≤ –љ–µ
–≥–Њ–≤–Њ—А—О.
–Ґ—Л –і–Њ—А–Њ–≥ –Љ–љ–µ —В—А—Г—Б–ї–Є–≤—Л–є –Є–ї—М
—Е–Њ—А–Њ–±—А—Л–є.
–Ґ–µ–±—П –Ј–∞ –≤—Б—С, –ї—О–±—П,
–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О.
–Ь–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ, –Ї—В–Њ —В—Л? –Ф–∞–є –Њ—В–≤–µ—В
–њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–є.
–Ґ—Л –≤–µ—В–µ—А, –і–Њ–ґ–і—М –Є–ї—М –Љ–Њ–ї–љ–Є—П –≤
–≥—А–Њ–Ј—Г?
–Ъ—В–Њ –± –љ–Є –±—Л–ї —В—Л, —В—Л –±—А–∞—В –Љ–Њ–є
—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л–є.
–Ґ—Л –і–Њ—А–Њ–≥ –Љ–љ–µ –Є –≤ —Е–Њ—Е–Њ—В, –Є –≤
—Б–ї–µ–Ј—Г.
–Ъ–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —В—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞
–ґ–Є–Ј–љ–µ–ї—О–±–Є–≤—Л–є!
–Ґ–µ–±–µ –Є —Б—В—Л–і, –Є –Ї–Є—В—З –њ–Њ—А–Њ–є
—А–Њ–≤–љ—П.
–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ, —З—В–Њ —В—Л –≤–Њ–≤—Б–µ
–љ–µ–Ј–ї–Њ–±–Є–≤—Л–є.
–Ш–љ–∞—З–µ –љ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –±—Л —П –љ–Є
–і–љ—П.
–£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ
—В–∞–Љ
–Љ–Є–Ї—А–Њ—Б–Ї–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —П–є—Ж–µ–Ї–ї–µ—В–Ї–Є –Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—А–Љ–∞—В–Њ–Ј–Њ–Є–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В
—Ж–µ–ї—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ґ–Є–≤—С—В, –і—Л—И–Є—В, –Є, —З—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, - –Љ—Л—Б–ї–Є—В –Є —В–≤–Њ—А–Є—В?
–Р
–Ї—Г–і–∞ –≤—Б—С —Н—В–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є? –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –≤—Б—С –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П? –Э–∞
—Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є
–ї–µ—В —Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–∞–Ј–і–љ—Л–Љ–Є, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П...
–Ґ–Є–ї–Є-—В–Є–ї–Є
—В–µ—Б—В–Њ,
–Ц–µ–љ–Є—Е –Є
–љ–µ–≤–µ—Б—В–∞
–Ь–µ–љ—П —Б —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–Њ–Є—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –≤–µ–ї–∞ –ї—О–±–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–љ–µ
–≤—Б—С
—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М; "–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –і–љ—С–Љ —Б–≤–µ—В–ї–Њ, –∞ –љ–Њ—З—М—О —В–µ–Љ–љ–Њ? –Ч–∞—З–µ–Љ —Г—В—А–Њ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ
—Г–Љ—Л–≤–∞—В—М—Б—П? –Ъ—В–Њ —В–Є–Ї–∞–µ—В –≤ –±—Г–і–Є–ї—М–љ–Є–Ї–µ? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Є –≤ —И—В–∞–љ–Є—И–Ї–∞—Е, –∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є –≤
–њ–ї–∞—В—М–Є—Ж–∞—Е?"
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –ѓ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –Ї
–і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ
–Љ–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞-–і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞, –Є –±–µ—Б—Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї —Г –љ–Є—Е
–њ–ї–∞—В—М–Є—Ж–∞. –ѓ –Љ–Њ–≥ –і–Њ–ї–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і –њ–ї–∞—В—М–Є—Ж–µ–Љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ,
–µ—Б–ї–Є
–њ–Њ–і –њ–ї–∞—В—М–Є—Ж–µ–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –ѓ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б:
- –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М –Ї—А–∞–љ–Є–Ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –њ–Є—Б–∞—О, –∞ —Г
–і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї –µ–≥–Њ –љ–µ—В? –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –Є–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М?
–Ь–∞–Љ–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–∞ –Љ–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–∞, –љ–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ
–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ. –ѓ
–њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї —Б–Њ—В–љ–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ —В–∞–Ї —Г—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ
–Њ—В—Б—Л–ї–∞–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Ї –њ–∞–њ–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –±—Л–ї —А—П–і–Њ–Љ, –Є–ї–Є –Ї –Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –µ—Й—С, –Ї—В–Њ
–њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї—Б—П
–њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г.
–°—А–µ–і–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Љ–µ–љ—П —Б —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞
–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є
—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є. –Ш –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –њ–Њ —Н—А–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П —В–Њ–≥–і–∞
–±—Л–ї
–і–∞–ї—С–Ї, –∞ –њ–Њ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ.
–Т –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б–∞–і–Є–Ї–µ —П –і—А—Г–ґ–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є. –ѓ –ї—О–±–Є–ї
—Е–Њ–і–Є—В—М
–њ–Њ –і–≤–Њ—А–Є–Ї—Г –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–Є–Ї–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Ї–Њ–є, –і–µ—А–ґ–∞ –µ—С –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г. –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Є
–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –° –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є —П –Љ–Њ–≥ –і—А—Г–ґ–Є—В—М –Њ—З–µ–љ—М
–і–Њ–ї–≥–Њ:
–Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –і–≤–∞, —В—А–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї –і—А—Г–≥—Г—О –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г. –Ю–њ—П—В—М —Б –љ–µ–є –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П
–Њ—З–µ–љ—М
–і–Њ–ї–≥–Њ: –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є, —В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є. –Ь—Л –і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Д–µ—В–∞–Љ–Є,
–њ–Є—А–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –Є
–њ—А–Њ—З–Є–Љ, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Є–≥—А—Г—И–µ–Ї. –С–µ–≥–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Є–≥—А–∞—П –≤ —Б–∞–ї–Њ—З–Ї–Є, –Є–ї–Є
–њ—А—П—В–Ї–Є.
–Ш –≤—Б—С –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є. –Э–∞—Б –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –Ј–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ
–Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П, —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї; –њ–µ–љ–Є–µ —Е–Њ—А–Њ–Љ, –Є–ї–Є —В–∞–љ—Ж—Л, –љ–Њ –Љ—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є
—Г–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ.
–Я–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ —Б –Њ–і–љ–Њ–є —О–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–µ–є —П –і—А—Г–ґ–Є–ї —В–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ,
—З—В–Њ
–љ–∞—Б –љ–∞—И–Є —Б–≤–µ—А—Б—В–љ–Є–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –і—А–∞–Ј–љ–Є—В—М:
- –Ґ–Є–ї–Є-—В–Є–ї–Є —В–µ—Б—В–Њ, –ґ–µ–љ–Є—Е –Є –љ–µ–≤–µ—Б—В–∞.
–Э–∞—Б —Н—В–Њ —В–∞–Ї
—Б–Љ—Г—В–Є–ї–Њ,
—З—В–Њ –Љ—Л —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М. –Ь—Л —Г–і—А—Г—З—С–љ–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–Ј–љ—М —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ—Г–ї–Ї–∞–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є
—Б–∞–і–Є–Ї–∞,
–Є –љ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –±—Л–ї–Є —Б–ї—С–Ј—Л. –ѓ —Г—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–∞–Љ—Л–є —Г–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї
–њ–ї–∞–Ї–∞—В—М –љ–∞–≤–Ј—А—Л–і. –Ц–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞–њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б—П–Ї. –Э–µ—В —Б—З–∞—Б—В—М—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –±–µ–Ј –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є.
–Ъ–∞–Ї
–ґ–Є—В—М –і–∞–ї—М—И–µ? –Э–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–µ–љ—М, –і—А—Г–≥–Њ–є, –Є —П –±—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Г—О,
—В–µ–Љ
–±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞, –њ—А–Є—Б—В—Л–ґ–µ–љ–љ–∞—П –і—А–∞–Ј–љ–Є–ї–Ї–Њ–є, —Б—В–∞–ї–∞ –±—Г–Ї–Њ–є. –Я—А–Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ
—Б–Њ
–Љ–љ–Њ–є –Њ–љ–∞ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –≤–Є–і, —З—В–Њ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–∞.
- –Т–Њ—В –Њ–љ–Њ, –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ! - –Ь—А–∞—З–љ–Њ –њ–Њ–і–Љ–µ—З–∞–ї —П, –Є —В—Г—В
–ґ–µ,
–≤ –Њ—В–Љ–µ—Б—В–Ї—Г, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М –Ј–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є.
–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї –Љ–Њ–є
–і–µ—В—Б–∞–і.
–Т —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –і–Њ –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї.
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є
–±–Њ–ї—М—И–µ –Є–≥—А—Л. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –ї–µ—В –≤ –і–µ—Б—П—В—М –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –і–µ—В—Б–∞–і–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –і–∞—З—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б
–Љ–∞–Љ–Њ–є, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–µ–є —В–∞–Љ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ, —В–Њ –Љ–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —Г–ґ–µ
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Н—А–Њ—В–Є—З–љ–Њ. –Ь–љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –і–ї—П
–Љ–µ–љ—П
–њ–Њ—З—В–Є —Б—В–∞—А—Г—Е–Њ–є. –Х–є –±—Л–ї–Њ –∞–ґ —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П –±—Л–ї —А–Њ—Б–ї—Л–Љ
–Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–Љ, –∞
–Љ–Њ—П –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Є—Ж–∞, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ–µ–љ—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞—А—И–µ,
–≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞
—А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ–і–Ї–Њ–є. –Ь—Л —Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б –љ–µ–є –≤–µ–Ј–і–µ, –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ —А—Г–Ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ
–Љ—Л
–љ–µ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М. –Э–∞–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —З—Г–ґ–і–Њ. –Э–Њ –Љ—Л —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ
–њ—А–Є–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –≤ —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –£ –Љ–Њ–µ–є –њ–∞—Б—Б–Є–Є —Г–ґ–µ
—Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–∞–±—Г—Е–ї–Є —Б–Њ—Б–Њ—З–Ї–Є –љ–∞ —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–≤—И–µ–є—Б—П –≥—А—Г–і–Є. –Ь–µ–љ—П —Н—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ.
–Т —Б–њ–∞–ї—М–љ–µ –љ–∞—И–Є –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є —А—П–і–Њ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П
–і–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ
—Б–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –Є–≥—А—Л —Б –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≥, –Љ–Њ—П –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є
–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞
—Б–≤–Њ–Є –љ–Њ–≥–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ–∞, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г.
–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Б—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ —Г–≥–Њ–Љ–Њ–љ–Є–ї–∞—Б—М –Є –Ј–∞—Б–љ—Г–ї–∞,
–Љ–Њ—П
"—Б—В–∞—А—Г—Е–∞" –њ–Њ–і–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї–∞ —Б–≤–Њ—О –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –Љ–Њ–µ–є –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є, –≤–Ј—П–ї–∞ –Љ–µ–љ—П
–Ј–∞
—А—Г–Ї—Г –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –µ—С, –Љ–Њ–ї—З–∞, –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–∞—Б–∞ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –Љ—Л, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ
–Є
—Г—Б—В–∞–ї—Л–µ, –Ј–∞—Б–љ—Г–ї–Є. –Я—А–Њ—Б–љ—Г–ї–Є—Б—М –Љ—Л –Њ—В —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ —И—Г–Љ–∞ –Є –≥–Њ–≥–Њ—В–∞. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥
–љ–∞—Б
—Б—В–Њ—П–ї–Є –≤—Б–µ —В–µ, –Ї—В–Њ —Б–њ–∞–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞–Љ–Є –≤ –њ–∞–ї–∞—В–µ. –Ю–љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—Б
–њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –Є
—Е–Њ—А–Њ–Љ —Б–Ї–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є:
- –Ґ–Є–ї–Є-—В–Є–ї–Є —В–µ—Б—В–Њ, –ґ–µ–љ–Є—Е –Є –љ–µ–≤–µ—Б—В–∞.
–Ґ—Г—В –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –≤—Б—С –њ–Њ–љ—П–ї–Є. –Э–∞—И–Є –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є –≤—Б—С —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Є
–≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О
–њ—А–Є–і–≤–Є–љ—Г—В—Л –Њ–і–љ–∞ –Ї –і—А—Г–≥–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ...
–Ф–∞–ї–µ–µ —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–∞ –±—Г—А–љ–∞—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М, –≥–і–µ —В—А—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ
—Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Є–љ—В–Є–Љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Ф–∞ –Є –љ–Є –Ї —З–µ–Љ—Г. –С—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–є, –±—Л–ї–Њ
–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л—Е –Љ–Є–љ—Г—В, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–Ї–Є–њ–∞–ї–∞ –Ї—А–Њ–≤—М –≤ –ґ–Є–ї–∞—Е. –Ю—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ
—В–∞–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ—Г—В.
–°—В–∞–≤ –њ–Њ—Б—В–∞—А—И–µ, —П –≤—Б—С —Н—В–Њ –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–ї –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є, —В–Њ—З–љ–Њ
–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–≤–Њ—С –±—Г–і—Г—Й–µ–µ. –ѓ —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—Л–Љ, –љ–Є –Њ —З—С–Љ –љ–µ –ґ–∞–ї–µ—П –Є —Б–∞–Љ
–љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—П, –љ–Њ —А–∞—Б–Ї–∞–Є–≤–∞—П—Б—М. –Ф–∞–є –±–Њ–≥ –Є –Љ–љ–µ –±—Л—В—М –њ—А–Њ—Й—С–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ –≤—Б–µ –Љ–Њ–Є
–ї—О–±–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є.
–Ь–Њ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –Є —Б
–њ—Л–ї–Њ–Љ –ї—О–±–Є–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥:
- –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П, –љ–µ–њ—Г—В—С–≤–Њ–≥–Њ! –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П —В–µ, –Ї—В–Њ –≤–µ—А–Є–ї
–Љ–љ–µ,
–ї—О–±–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Є –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—П. –ѓ –≤–∞—Б –≤—Б–µ—Е –ї—О–±–Є–ї, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–ї, –љ–Њ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г,
—П
–љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –і–ї—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П, –•—А–Є—Б—В–∞ —А–∞–і–Є! –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Г –Љ–µ–љ—П
–і—А—Г–≥–Њ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П! –ѓ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ
–≤–∞—Б, –Љ–Њ–Є –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ, –Љ–Њ–Є –љ–µ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ—Л–µ. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –≤–∞–Љ –Ј–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Є –ї–∞—Б–Ї—Г. –ѓ –≤–∞—Б
–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞
–љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г...
–С–ї—Г–і
–њ–Њ—Б–≤.
–Љ–Њ–µ–є —В—С—В—Г—И–Ї–µ,
–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–љ–µ
–Р–љ–Є—Б–Є–Љ–Њ–≤–љ–µ
–Я–∞–љ–∞—А–Є–љ–Њ–є.
 –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ
–±—Л–ї–Њ:
–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ
–±—Л–ї–Њ:
–Ь–Є–ї—Л—Е, —Б—В—А–Њ–є–љ—Л—Е,
–Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е.
–Ы—Г—З—И–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В—М –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї–∞,
–°—В–µ—А–ї–Є—Б—М –Њ–±–ї–Є–Ї–Є –Є–љ—Л—Е.
–Ь–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–Њ–Љ–љ—О, –љ–µ
–Ј–∞–±—Г–і—Г
–Ф–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є
—Б–≤–Њ–Є—Е.
–Э–Њ –ї—О–±–Є–ї –ї–Є –Є—Е? –Э–µ
–±—Г–і—Г
–Ю–±–Є–ґ–∞—В—М —В–µ—Е
–Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е.
–°–≤–Њ—С —Б–µ—А–і—Ж–µ –±–µ–Ј
—А–∞–Ј–±–Њ—А–∞
–Ю—В–і–∞–≤–∞–ї –Њ–і–љ–Њ–є,
–і—А—Г–≥–Њ–є.
–Ш–Ј–Љ–µ–љ—П–ї –ґ–µ –Њ—З–µ–љ—М
—Б–Ї–Њ—А–Њ,
–Ф–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є. –Ґ—С—В—П
–Ъ–∞–њ–∞.
–Ч–≤–∞–ї –≤ –Њ–±—К—П—В–Є—П —П
–≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ,
–£–Љ–Њ–ї—П–ї –≤ —Б–ї–µ–Ј–∞—Е
–і—А—Г–≥–Є—Е.
–Ю–±–Њ–ї—М—Й–∞–ї –≤—Б–µ—Е –њ—Л–ї–Ї–Њ,
—Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ
–°–≤–µ—В–ї—Л—Е, —В—С–Љ–љ—Л—Е, –і–Њ–±—А—Л—Е,
–Ј–ї—Л—Е.
–Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є
—Г–Љ–љ—Л—Е,
–У–ї—Г–њ—Л—Е, –њ–Њ—И–ї—Л—Е –Є
–њ—Г—Б—В—Л—Е.
–Т–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е,
–Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е,
–Ю—З–µ–љ—М —В–Њ–ї—Б—В—Л—Е –Є
—Е—Г–і—Л—Е.
–Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є, —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є,
–С—Л–ї –Є—Е —Ж–µ–ї—Л–є
—Е–Њ—А–Њ–≤–Њ–і.
–°–ї–∞–і–Ї–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞
–±–µ—А–µ–і–Є–ї–Є,
–°–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–µ—В–µ—А –≥–ї–∞–і–Є
–≤–Њ–і.
–Т—Б—С –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –љ–µ
—Н—В–∞
–Ы—Г—З—И–µ –≤—Б–µ—Е, –і–∞ –Є
–љ—Г–ґ–љ–µ–є.
–Ц–Є–Ј–љ—М, –±–µ–Ј–Њ–±–ї–∞—З–љ–Њ–µ –ї–µ—В–Њ
–С–µ–Ј –≥—А–Њ–Ј—Л –Є –±–µ–Ј
–і–Њ–ґ–і–µ–є.
–£—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М
–±—Л
–Ь–Њ–≥ —П —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –ї–Є—И—М
–Њ–і–љ–Є–Љ.
–Ю–±–µ—Й–∞–љ—М–µ–Љ —Б–Ї–Њ—А–Њ–є
—Б–≤–∞–і—М–±—Л,
–Ф–∞ –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Њ–Љ
–і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ.
–ѓ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Ј–Є—А–∞–ї
–±–µ—Б–њ–µ—З–љ–Њ
–Э–∞ —А—Л–і–∞–љ–Є—П
–Њ–і–љ–Є—Е.
–Ф–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —П
–±–µ—Б—Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ
–Ф–Њ –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–Є
–і—А—Г–≥–Є—Е.
–Э–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ
–Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї–Є,
–Ґ–Є—Е–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ
–љ–Є—Е.
–Ч–≤–Њ–љ–Ї–Њ —Б—В—С–Ї–ї–∞
–і—А–µ–±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є
–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤
–Є–љ—Л—Е.
–Ґ—А–µ—В—М–Є –ї–Є—И—М —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є
–Ї–Њ–ї–Ї–Њ,
–Ю—В —Б—В—Л–і–∞ –Њ–≥–љ—С–Љ
–≥–Њ—А—П.
–£—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–µ
–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ,
–Ґ—Г—В –ґ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М
–Ј—А—П.
–Ю —А–µ–±—С–љ–Њ—З–Ї–µ
–љ–∞–Љ—С–Ї–Є
–Э–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Љ–µ–љ—П
—Б–Љ—Г—В–Є—В—М.
–Ь–Њ–Ї—А—Л–µ, —Е—Г–і—Л–µ
—Й—С–Ї–Є
–Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –љ–µ
–Ј–∞–±—Л—В—М.
–£—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –љ–µ –Є—Б–Ї–∞–ї
—П.
–Т—Б–µ—Е –њ—А–Є–Љ–Є
–і–Њ—А–Њ–≥–∞!
–°–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ –±—Л–ї –Є–Ј
—Б–Ї–∞–ї
—П,
–Я–Њ –њ—А–Є—З—Г–і–µ
–С–Њ–≥–∞.
–Ю—Б–µ–љ—М –≤—Б—В–∞–ї–∞ —Г
–њ–Њ—А–Њ–≥–∞
–Ш –Ј–Є–Љ–∞ —Б—В—Г—З–Є—В
–Ї–ї—О–Ї–Њ–є.
–Ч–∞–њ–Њ—А–Њ—И–µ–љ–∞
–і–Њ—А–Њ–≥–∞,
–Я–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —И—С–ї
–Љ–ї–∞–і–Њ–є.
–°—В–∞—А —П —Б—В–∞–ї, –љ–µ–Љ–µ—О—В
–љ–Њ–≥–Є.
–Ы—Г—З—И–Є—Е –Љ–љ–µ –љ–µ –ґ–і–∞—В—М
–≥–Њ–і–Є–љ.
–Ъ–∞–Ї –Љ–µ–і–≤–µ–і—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є
–±–µ—А–ї–Њ–≥–µ
–Ъ–Њ—А–Њ—В–∞—О –ґ–Є–Ј–љ—М
–Њ–і–Є–љ.
–°–ї—Г—Е –њ—А–Њ–њ–∞–ї, –љ–µ –≤–Є–і—П—В
–Њ—З–Є,
–Т–Ї—Г—Б –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В
—Г—Б—В–∞.
–Т—Б—С –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–µ–Љ–љ–µ–µ
–љ–Њ—З–Є,
–Ц–Є–Ј–љ—М –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–∞ –Є
–њ—Г—Б—В–∞.
–Ь–Њ–ґ–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М –Љ–Њ—П
–і–∞–ї—С–Ї–Њ,
–Ш –Ї–Њ–њ—В–Є—В—М –Љ–љ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ
—Б–≤–µ—В.
–І—В–Њ –Ј–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В—М
–Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ
–Я—А–Њ–Ј—П–±–∞—В—М –љ–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ
–ї–µ—В?
–Ъ—В–Њ –ґ–µ —А—П–і–Њ–Љ? –Ъ—В–Њ —Б–Њ
–Љ–љ–Њ—О?...
–Э–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Л—И—Г
—П.
–Т–Є–і–љ–Њ –Љ–љ–µ –Є–і—В–Є —Б
—Б—Г–Љ–Њ—О,
–Я–Њ–і—Л—Б–Ї–∞–≤
–њ–Њ–≤–Њ–і—Л—А—П.
–Р –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤—Б—С –±—Л—В—М
–Є–љ–∞—З–µ,
–С—Г–і—М –љ–µ –±–ї—Г–і–Њ–Љ –≤ —В–µ
–≥–Њ–і–∞.
–Ш —Б–µ–Љ—М—П –±—Л–ї–∞ –± —В–µ–Љ
–њ–∞—З–µ,
–І—В–Њ –ї—О–±–Є–Љ —П –±—Л–ї
—В–Њ–≥–і–∞.
–С—Л–ї —Б–Њ–≥—А–µ—В –±—Л –Є
–љ–∞–Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ,
–Ш –Њ–±–ї–∞—Б–Ї–∞–љ, –Є
–Њ–±—И–Є—В.
–Р —Б–µ–є—З–∞—Б —Б—Г–і—М–±–Њ—О
—Б–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ.
–С–Њ–ї–µ–љ, –≤—Б–µ–Љ–Є
–њ–Њ–Ј–∞–±—Л—В.
–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ
–±—Л–ї–Њ!
–Ь–Є–ї—Л—Е, –і–Њ–±—А—Л—Е,
–Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е.
–Ы—Г—З—И–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В—М –љ–µ
–Ј–∞–±—Л–ї–∞,
–°—В–µ—А–ї–Є—Б—М –Њ–±–ї–Є–Ї–Є
–Є–љ—Л—Е.
–Ь–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–Њ–Љ–љ—О, –љ–µ
–Ј–∞–±—Г–і—Г
–Ф–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–љ–µ–є
—Б–≤–Њ–Є—Е.
–Т—Б–µ—Е –ї—О–±–Є–ї —П, –ї–≥–∞—В—М –љ–µ
–±—Г–і—Г!
–Э–µ—В —Б—А–µ–і—М –≤–∞—Б, "—В–µ—Е
–Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е".
"–Э–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ"
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є
–Т–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б, –≤ —Б–≤–Њ–Є 70-—П—В –ї–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–Њ—О –њ–Є—И—Г—В—Б—П —Н—В–Є
–≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П
–Њ –Љ–Њ—С–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, —П –Ј–љ–∞—О –њ—А–Њ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –і—П–і—О –§—С–і–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –µ–ї —Б–≤–Њ–Є
"–љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ"
–±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і—Л –Є —Г–≥–Њ—Й–∞–ї –Є–Љ–Є –Ї–Њ—В–∞ –Ь–∞—В—А–Њ—Б–Ї–Є–љ–∞. –Э–Њ —П –Њ—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ
–≤
–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Ї –љ–∞–Љ –≤ —З—Г—Е–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –±–∞—А–∞–Ї–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –і–∞–ї—М–љ—П—П —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ –Є–Ј
–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П. –Ю–љ–∞ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ –Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л,
–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–≤. –Э–Њ –µ—С —Б—В—А–∞—Б—В—М –Ї –µ–і–µ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, - —Н—В–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ
–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Ї–Є.
–Ш —В–Њ–≥–і–∞, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤ —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –љ–µ—Е–Є—В—А—Л–є —Б–∞–Ї–≤–Њ—П–ґ,
—В—С—В—П
–Т–∞—А—П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞:
- –Ь–∞—А–Є—П, —П –≤–Њ—В —В—Г—В –≤–∞–Љ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ—Ж—Л. –°—А–µ–і–Є
–љ–Є—Е
–µ—Б—В—М –Є –Љ—Г–Ї–∞. –ѓ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–Є–Љ–Њ –≤–∞—И–µ–≥–Њ —З—Г—Е–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—З–Є–Ї–∞ –Є –Ї—Г–њ–Є–ї–∞
–Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ
—Д–∞—А—И–∞. –Ф–∞–≤–∞–є —Б–і–µ–ї–∞–µ–Љ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є.
–Ш –Њ–љ–∞ —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞–Љ–µ—Б–Є–ї–∞ —В–µ—Б—В–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–µ–ї–∞—В—М –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞
–Њ–љ–∞
—А—Г–Ї–∞–Љ–Є –±—Л—Б—В—А–Њ –Є –ї–Њ–≤–Ї–Њ. –Я—А–Њ—И–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М
–≥–Њ—А–∞ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є. –Ґ—С—В—П –Т–∞—А—П, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞—П —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є, –≥–ї–∞–Ј –љ–µ —Б–≤–Њ–і–Є–ї–∞ —Б —Н—В–Є—Е
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є, –њ—А–µ–і–≤–Ї—Г—И–∞—П –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —В—А–∞–њ–µ–Ј—Г. –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–∞–Љ–µ, —З—В–Њ –љ–∞
–њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–Є–љ—Г—В –≤—Л–є–і–µ—В –њ–Њ–і—Л—И–∞—В—М —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ, –∞ —В—Л –Љ–Њ–ї, –Ь–∞—А–Є—П, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤—М
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є.
–Ь–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ї–µ—А–Њ—Б–Є–љ–Ї—Г –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞—Б—В—А—О–ї—О, –љ–∞ —В—А–Є
—З–µ—В–≤–µ—А—В–Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –µ—С –≤–Њ–і–Њ–є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М, —В–Њ –≤—Б—П —Н—В–∞ –≥–Њ—А–∞
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є —Г–ґ–µ –±—Г–ї—М–Ї–∞–ї–∞ –≤ –Ї–∞—Б—В—А—О–ї–µ, –њ–ї–∞–≤–∞—П —Б–≤–µ—А—Е—Г –Є –Є–Ј–і–∞–≤–∞—П –∞–њ–њ–µ—В–Є—В–љ—Л–є
–∞—А–Њ–Љ–∞—В.
- –Ъ–∞–Ї –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–∞—Е–љ—Г—В –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є: —Б –ї—Г—З–Ї–Њ–Љ, –њ–µ—А—Ж–µ–Љ,
—Б
–ї–∞–≤—А—Г—И–Ї–Њ–є, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М. - –ѓ –Є—Е —Г —Б–µ–±—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ
–Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ –і–µ–ї–∞—О –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –љ–∞–µ–Љ—Б—П. –Э–Њ, –Ь–∞—А–Є—П, —В—Л –≤–∞—А–Є—И—М
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є
–љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ: —Г —В–µ–±—П —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і—Л. –Т–µ—Б—М –≤–Ї—Г—Б –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є —Г—Е–Њ–і–Є—В –≤ –≤–Њ–і—Г,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В—Л –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–Њ–ї—М—С—И—М. –Э—Г–ґ–љ–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –≤–∞—А–Є—В—М
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є.
–Ь–∞–Љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Є–≤–Є–ї–∞—Б—М:
- –Т—Б–µ–≥–і–∞ —Г –љ–∞—Б –≤ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–µ –≤—Б–µ –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї. –Р
–Ї–∞–Ї
–≤–∞—А–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є —П –љ–µ –Ј–љ–∞—О.
- –Р —П —В–µ–±—П –љ–∞—Г—З—Г, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л —Б—К–µ–і–Є–Љ —Н—В—Г –њ–∞—А—В–Є—О –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є. -
—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П.
–Ь–∞–Љ–∞ –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї–∞—Б—М - –Љ–Њ–ї, –њ–Њ—Б–ї–µ —В–∞–Ї–Њ–є –≥–Њ—А—Л –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ
–љ–µ–і–µ–ї—О –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М.
–Э–Њ —В—С—В—О –Т–∞—А—О —Н—В–Њ—В –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –љ–µ —Г–±–µ–і–Є–ї. –Ь—Л —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є —Г—Б–њ–µ–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ
–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ–ї—М–Љ–µ—И–µ–Ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –≤ —А–Њ—В, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М. –Ґ—С—В—П –Т–∞—А—П —Б
—В–∞–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –Є—Е –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М.
- –Ю—В–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є! - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П. - –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–њ–Њ–Ј–ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ–і–∞–µ–Љ—Б—П, —П
—Б–і–µ–ї–∞—О –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є.
–Ґ—С—В—П –Т–∞—А—П –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ–і–∞–ї–∞—Б—М –Љ–Є–љ—Г—В —З–µ—А–µ–Ј 20-—В—М. –Ю–љ–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –Ј–∞–Љ–µ—Б–Є–ї–∞
—В–µ—Б—В–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –µ—Й—С –Њ–і–љ—Г –≥–Њ—А—Г –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є.
- –£ —В–µ–±—П –µ—Б—В—М —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї–∞? - —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–љ–∞
–Љ–∞–Љ—Г.
–Ь–∞–Љ–∞ –і–Њ—Б—В–∞—С—В —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї—Г, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Л –Њ–±—Л—З–љ–Њ –ґ–∞—А–Є–ї–Є
–Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї—Г.
- –Э–µ—В, –Ь–∞—А–Є—П. –≠—В–Њ —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–∞–ї–∞. –Э—Г–ґ–љ–∞ —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї–∞
–љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —В—С—В—П –Т–∞—А—П.
–Ь–∞–Љ–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –≤ –±–∞—А–∞–Ї –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–і–µ—В–љ–∞—П —Б–µ–Љ—М—П
–Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е.
–Ш—Е –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –±—Л–ї–Њ —Б–µ–Љ–µ—А–Њ. –Ю—В –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –Љ–∞–Љ–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О
—Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї—Г,
–≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–Њ–є –њ–Њ—З—В–Є —Б —В–∞–Ј.
- –Т–Њ—В —Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ! - –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —В—С—В—П
–Т–∞—А—П.
–Ю–љ–∞ –љ–∞–ї–Є–ї–∞ –љ–∞ —Н—В—Г —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї—Г –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б–ї–∞ –Є
–≤–Њ–і—Л.
–Ч–∞—В–µ–Љ –і–∞–ї–∞ —Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Є–њ–µ—В—М –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Њ–≥–љ–µ –Ї–µ—А–Њ—Б–Є–љ–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і–∞
–Ј–∞–Ї–Є–њ–µ–ї–∞, —В—С—В—П –Т–∞—А—П –≤—Л—Б—Л–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї—Г –≤—Б–µ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–ї–Є
—Б–Ї–Њ–≤–Њ—А–Њ–і–Ї—Г –Њ–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ, –љ–Њ –±–µ–Ј –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–∞. –Т–Њ–і–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –Ї–Є–њ–µ—В—М.
–Ґ—С—В—П
–Т–∞—А—П —Б–ї–Є–ї–∞ –ї–Є—И–љ—О—О –≤–Њ–і—Г —Б –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–і–∞ –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є. –Ь–∞–Љ–∞ –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –і–∞–ї—М—И–µ.
–Э–Њ —В—С—В—П –Т–∞—А—П —Б–≤–Њ—С –і–µ–ї–Њ –Ј–љ–∞–ї–∞ —В—Г–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і–∞ –Ј–∞–Ї–Є–њ–µ–ї–∞,
–Њ–љ–∞
—Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—И–Є–≤–∞—В—М –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–Є–ї–Є–њ–∞–ї–Є. –Т–Њ–і–∞ –Њ—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ –≤—Б—П
–≤—Л–Ї–Є–њ–µ–ї–∞, –Є –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–і—Б—Г—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А—Г–Љ—П–љ–Є–≤–∞—В—М—Б—П.
–Я–Њ—Б–ї–µ
—Н—В–Њ–≥–Њ —В—С—В—П –Т–∞—А—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і—А—Г–Љ—П–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є –±–ї—О–і—Ж–µ —Б–Њ —Б–ї–Є–≤–Њ—З–љ—Л–Љ
–Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ. –Ь–∞—Б–ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —А–∞—Б—В–Њ–њ–Є–ї–Њ—Б—М. –Я–Њ–ї–Є–≤ —А–∞—Б—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Є–≤–Њ—З–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б–ї–Њ–Љ
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є,
—В—С—В—П –Т–∞—А—П –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –Є—Е –Ї —Б—В–Њ–ї—Г.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ–і–∞—В—М—Б—П, —Н—В–Є
"–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ"
–њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є –Љ—Л —Г–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Ј–∞ –Њ–±–µ —Й–µ–Ї–Є. "–Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ" –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї–Є
–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ
–±–µ—Б–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л –Є —Е—А—Г—Б—В–µ–ї–Є –љ–∞ –Ј—Г–±–∞—Е.
–° —В–µ—Е –њ–Њ—А —Г –Љ–µ–љ—П, –њ—А–Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–µ–є, –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В
–≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞: –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ–µ–ї—М–Љ–µ–љ–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М - "–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ" –Є–ї–Є
"–љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–µ"?
–°—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–∞—П
–Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –≤–Њ—В
–ґ–Є–ї–∞ —Г –љ–∞—Б –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є —Г–ї–Є—Ж–µ –≤ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–µ. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П! –У–ї–∞–Ј–∞ –≥–Њ–ї—Г–±—Л–µ, –Ї–∞–Ї
–∞–љ—О—В–Є–љ—Л –≥–ї–∞–Ј–Ї–Є. –Э–µ—В, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ј–∞–±—Г–і–Ї–Є. –Э–µ—В, —В–Њ—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≤–∞—Б–Є–ї—М–Ї–Є. –°—В–∞–ї–∞
–Њ–љ–∞ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —А–∞–Ј–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ —И–љ—Г—А–Њ—З–Ї–Є –љ–∞ –±–Њ—В–Є–љ–Њ—З–Ї–∞—Е. –≠—В–Њ –љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ
—Б–µ–є—З–∞—Б
—В–∞–Ї–Є–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В. –†–∞–љ—М—И–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є —Б–Њ —И–љ—Г—А–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, –Є
–њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ —И–љ—Г—А–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є. –Т–µ–і—М –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–µ—И–µ–≤–ї–µ, –∞
—Г
–љ–∞—А–Њ–і–∞ –і–µ–љ–µ–≥ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –±–Њ—В–Є–љ–Њ—З–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ.
–°—В—А–∞–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–∞ –±–µ–і–љ–µ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –±–µ–і–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ, —Е–Њ—В—П –Є
–≤—Л–Є–≥—А–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Г. –Э–µ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –і–µ–љ—М–≥–Є —Г –љ–∞—А–Њ–і–∞, –і–∞ –Є –≤—Б—С —В—Г—В. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ,
—З—В–Њ
—В–Њ–≥–і–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ —Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –і–µ–љ—М–≥–Є –љ–µ –≤–Њ—А–Њ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≤–Њ—А—Г—О—В –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Г
–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –і–µ–љ–µ–≥ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±—Л–ї–∞
—А–∞–Ј—А—Г—Е–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –ґ–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ—О –Љ–Є–Ј–µ—А–љ—Г—О
–Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Г. –Ш –≤—Б–µ –і—А—Г–≥ —Г –і—А—Г–≥–∞ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–љ—П—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є –і–Њ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л.
–Э–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Э–µ—В, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ —Н—В–Њ
—Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М
–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ, –љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М-–Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–Њ, –Є–±–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ —Г –Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, —Г
—В–µ—Е, —Г
–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М –і–µ–љ–µ–≥ –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Ї–Є, –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Р —Г —В–µ—Е, —Г –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М –і–µ–љ–µ–≥
–і–Њ
–њ–Њ–ї—Г—З–Ї–Є, –Ј–∞–љ—П—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г –љ–Є—Е —В–Њ–ґ–µ –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ
–±—Л–ї–Њ.
–Ш, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Љ–∞–Љ–µ —Н—В–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є —Б –≤–∞—Б–Є–ї—М–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є
–і–µ–љ–µ–≥ –Ј–∞–љ—П—В—М –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ —В—Г—Д–µ–ї—М–Ї–Є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М. –Ю–љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ —З—В–Њ –њ–Њ–і–µ—И–µ–≤–ї–µ, - —Б–Њ
—И–љ—Г—А–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О, —И–љ—Г—А–Њ—З–Ї–Є –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ
—Б–Њ
—И–љ—Г—А–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В. –І—В–Њ –Њ–љ–Є —Е—Г–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е, —З—В–Њ –ї–Є?
–Ш –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ —А–µ—И–Є–ї–∞ –≤–Є–ї–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М —Н—В–Є–Љ —И–љ—Г—А–Њ—З–Ї–∞–Љ
—А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П.
–Т–Є–ї–Ї–∞ —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ —Б —Г–Ј–µ–ї–Ї–∞ –Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Б–µ–±–µ –≤—Л–Ї–Њ–ї–Њ–ї–∞ –≥–ї–∞–Ј. –Ы–∞–і–љ–Њ –±—Л –ї–µ–≤—Л–є, –∞–љ –њ—А–∞–≤—Л–є. –Ш —В–µ–њ–µ—А—М —Г —Н—В–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є
–±—Л–ї
–љ–Њ–≤—Л–є –≥–ї–∞–Ј, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ—Л–є. –Х—С –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥,
–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ
–ґ–µ, –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–µ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є, –Є –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –°—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–Њ–є.
–Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ї, –Њ–њ—П—В—М –љ–∞ —В–∞–љ—Ж–∞—Е –°—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–∞—П –±—Л–ї–∞? –І—В–Њ, –µ—С –Њ–њ—П—В—М
–љ–Є–Ї—В–Њ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞—В—М –љ–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї? –Э–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ. –Ъ—А–∞—Б–Є–≤–∞—П –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, –љ–µ—В –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ –Њ–љ–∞
—Г–ґ–µ
–і–µ–≤—Г—И–Ї–∞. –Э–µ—В, —В–Њ—З–љ–Њ, –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ —Б—В–∞—А–∞—П –і–µ–≤–∞, –Є –і–∞–≤–љ–Њ. –Т—Б–µ –µ—С –њ–Њ–і—А—Г–≥–Є –і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–Љ—Г–ґ, –∞ –Њ–љ–∞ –≤—Б—С –љ–Є–Ї–∞–Ї
–љ–µ
–Љ–Њ–ґ–µ—В.
–Т—Б–µ–Љ —Н—В–∞ "–і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞" –љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М, –і–∞–ґ–µ –Љ–љ–µ, –≤–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—С
—Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ—Л–є –≥–ї–∞–Ј –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї —Г–і—А—Г—З–∞—О—Й–µ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ. –ѓ —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —В–∞–љ—Ж–∞—Е,
—Е–Њ—В—П —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Ї–µ, –Ї–∞–Ї –Є –°—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ–∞—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М
–Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤—Л–Љ –њ–∞—А–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ. –Т –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ—М–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —П –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї
—Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ:
–†–Њ–±–Ї–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М
–њ–Њ—Б–≤. –Ю–ї—М–≥–µ
–Э–∞—Г–Љ–µ–љ–Ї–Њ
 –Ц–∞–ґ–і—Г –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—В—М —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є
–Ц–∞–ґ–і—Г –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—В—М —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є
–Т–∞—Б –і–Њ –њ–ї–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е
–њ–ї–µ—З.
–Я—Л–ї–Ї–Њ –њ—А–Є–ґ–∞—В—М—Б—П —Г—Б—В–∞–Љ–Є,
–Ґ—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—Б—В—М—О
–Њ–±–ґ–µ—З—М.
–Т—Л –Љ–Њ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥,
—Г–њ–Њ–µ–љ—М–µ!
–Т–µ—А—Е –і–Њ–±—А–Њ—В—Л, –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л.
–Ф–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–і–∞ —В–≤–Њ—А–µ–љ—М–µ!
–°–≤–µ—В —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—З—В—Л.
–Э–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З—М–µ–Љ
–≤–ї–∞–і–µ—О
–ѓ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л—Е
—Б–љ–∞—Е.
–Р –њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–≤ –Т–∞—Б, –љ–µ–Љ–µ—О.
–†–Њ–±–Њ—Б—В—М –≤–Њ –Љ–љ–µ –ї–Є—И—М, –і–∞ —Б—В—А–∞—Е. –Ю–ї—М–≥–∞ –Э–∞—Г–Љ–µ–љ–Ї–Њ.
–Т–µ—Б—М, –Ї–∞–Ї –і–Є—В—П
–њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ—О,
–Ъ –≥–Њ—А–ї—Г –њ–Њ–і–Ї–∞—В–Є—В—Б—П –Ї–Њ–Љ.
–Т–Ј–Њ—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В—М –љ–µ
–њ–Њ—Б–Љ–µ—О,
–Ч–µ–Љ–ї—О, —З–µ—А—В—П –±–∞—И–Љ–∞–Ї–Њ–Љ.
–Я–Њ—Б–ї–µ
–±—А–∞–љ—П —Б–≤–Њ—О —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М
–Я–ї–∞—З—Г –≤ —В—А–∞–≤–µ —Г —А–µ–Ї–Є.
–Я—Г—Б—В–Њ –≤ –і—Г—И–µ, –≤—Б—С –љ–µ –≤
—А–∞–і–Њ—Б—В—М.
–°–µ—А–і—Ж–µ —Й–µ–Љ–Є—В –Њ—В —В–Њ—Б–Ї–Є.
–Ш–Ј–і–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—Г–±–∞–Љ–Є
–Ґ–Є—Е–Њ –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞—В—М:
"–ѓ –Т–∞—Б –ї—О–±–ї—О", - –љ–Њ –њ—А–µ–і
–Т–∞–Љ–Є
–Ь–љ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –ї–Є—И—М
—Б—В—А–∞–і–∞—В—М.
–Т–Њ—В —В–∞–Ї–Є–µ —Г –љ–∞—Б –≤ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–µ –±—Л–ї–Є –њ–Є—А–Њ–≥–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–ї—Г—З–∞–Є. –Ш
–µ—Б–ї–Є —Г–ґ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ, —В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–Є–≥–і–µ, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ –Є –љ–µ
–±—Л–ї–Њ, - —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –љ–∞—Б –≤ –І—Г—Е–ї–Є–љ–Ї–µ, –≤ –Ъ–Њ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В—Г–њ–Є–Ї–µ. –Т—Б—С-—В–∞–Ї–Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ - –≤
—В—Г–њ–Є–Ї–µ.
–Ш —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ.
–Э–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –І—Г—Е–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –≤ –Ъ–Њ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В—Г–њ–Є–Ї–µ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ
—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М, –љ–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М...