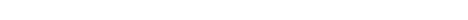Я в общем понимаю нелюбовь к стихам. Каждый стремится быть в своей компании. Стихи же – это такая заумь… высокая… что хочется от них быть подальше. Сам я – человек довольно низкого происхождения, провинциал, помню, в юности, что я искал в газете? – Фельетон. На стихи внимания не обращал. Если я и огорчался чем, касающимся искусства, так это суесловием искусствоведов. – Физика, химия погружали-таки в тайны природы. А про то, скажем, почему Леонардо да Винчи гений, узнать было негде. Литература была чуть не ненавистным предметом, потому что – мёртвая. Подготовка к сочинению состояла в том, чтоб списать из, например, Белинского пару цитат, и потом на уроке суметь их незаметно списать, сведя к ним свой текст.
Насмешка судьбы в том, что я от желания понять, почему Леонардо да Винчи гений, дошёл через перевоспитание и переобучение себя до положения критика, публикующего свои статьи в электронных журналах. Регулярно.
Оторвался, наверно, от тех, каким был я сам в прошлом. Меня стало восторгать такое, о чём я когда-то даже помыслить не мог. Например, звукосмысл.
Вейдле отлично его объяснил, сказав, что немецкое blitz лучше русской молнии.
Хм. Действительно! Этак и иная загогулина из ветки кажется замечательной. – Эстетическое вне искусства…
Но физика сделала своё дело (я в школе был третьим физиком в масштабе маленькой республики). Глубинное почему меня страстно интересует и в искусстве. И теперь я расстраиваюсь, прочтя стихотворение великого, скажем, Блока (скажем, “Равенна”), и обнаруживая, что мне только и хочется, что пожать плечами.
| |
|
| |
Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.
Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожег.
Военной брани и обиды
Забыт и стерт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
Не пел страстей протекших лет.
Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.
А виноградные пустыни,
Дома и люди — всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.
Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.
Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
Май-июнь 1909 |
Что прочёл, что не прочёл…
География в школе был мой любимый предмет. Из-за этого я знаю, что Равенна – город в Италии. Ну имя Данте со школы тоже помню. – Всё. Больше ничего, имеющего собственное имя, мне тут не известно: Галла, Плакида, Теодорих, Новая Жизнь…
А когда я наткнулся на описание тайных пружин в этом стихотворении… Вы не поверите. Как ни люблю я тайны, мне стало противно.
В нём оказалась дополнительная к ритму и рифме стройность.
"В первой и последней строфах… звучит голос автора, образ которого появляется здесь как лирический персонаж, — в первой строфе он звучит в двойном обращении к Равенне : ...похоронила ТЫ, ТЫ, как младенец, спишь... ; в последней строфе – в личном местоимении мне ; О Новой Жизни МНЕ поет. В остальных же семи строфах авторского голоса нет — он уступает место объективным описаниям…” (Эткинд. Материя стиха. PARIS. 1985).
И таких – кольцевых – структур в стихотворении, оказывается, полным-полно! Эткинд ещё и как бы графику для иллюстрирования привлекает (римскими цифрами – строфы, которых всего 9).
|
I |
II III IV V VI VII VIII |
IX |
|
субъективное |
объективный мир |
субъективное |
Просто читая стихотворение, да, чувствуешь, что оно явно для чего-то написано. Но чтоб заметить симметрию!..
Слово "века”, оказывается, работает так же – рамкой: есть только в первой и последней строфах.
Я не представляю себе механизма чувствования так далеко – через 152 слова. Даже если назвать его подсознательным, т.е. всемогущим.
То ли дело – вейдлевский звукосмысл. До моего сознания он тоже не дошёл (даю пример).
Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
|
Всё, что минутно, всё, что бренно
/ /| - / | - /| - / | -
спондей
Похоронила ты в веках
- -| - /| - / | - /
анакруза
бренно Равенна сонной |
Спондей и анакруза замедляют стих.
Синтаксический и словесный повтор
Двойное н. |
Медленность |
Но короткодействие как-то понятно. А длиннодействие…
Я даже понимаю плебейскую ненависть к аристократам. Имея в виду, что аристократы с молоком матери впитывают то, что называется вкусом. Звукосмысл я ещё могу постигнуть. И мне даже самому уже удалось несколько раз его заметить. А вот с этой стройностью композиции…
Всё, однако, становится на свои места, когда я читаю Громова “А. Блок, его предшественники и современники "Путь среди революций" (Блок-лирик и его современники). Глава 4”.
Тут я грубо вычитываю намёк на то, что, удрав из российского котла, кипящего революцией (1905 – 1922 годов, как теперь говорят о Великой Русской революции), Блок видит смерть Европы в этом отношении (сместился центр революционной борьбы из Западной Европы в Россию, а без революции нет личности):
"…не может быть обычного человеческого существования личности там, где прошлое, история, запечатленная в культуре, неизмеримо превышает сегодняшние возможности жизни” (http://blok.lit-info.ru/blok/about/gromov-blok/sredi-revolyucij-4-1.htm ).
Можно расхохотаться, что личность связывается с революцией, когда революция-то связана с массой, и где уж личность в массе. Но так думал Блок в 1909 году. Он, может, потому и умер в 1918-м, что увидел, что ошибся, что силу взяла не личность, а норматив масс. Но в 1909-м он думал так. Или, как я люблю акцентировать, его подсознание так думало.
И тогда стройность композиции “Равенны” для меня становится результатом дальнодействия, так сказать, подсознательного идеала трагического героизма, к которому Блок катился из неопределённых высот символизма. Стройность – образ замкнутости, гроба, в который заключена Западная Европа сравнительно с кипящей и вот-вот опять взорвущейся Россией. Такой мощи пафос представляется естественно способным устроить в стихотворении множество намёков на симметрию. И я с удовольствием теперь могу пересказать то, что мне недавно казалось противной заумью.
"…звуковой комплекс гроб - гробница содержится в четырех строфах и нет его в двух первых и двух последних строфах, а также в одной центральной, пятой”.
|
I II |
III IV |
V |
VI VII |
VIII IX |
| |
грубый свод гробниц, гробовые залы |
|
в гробе, всё гроба |
|
Или вот:
"В строфе I и II звуки слов гроб-гробница подготовлены сочетанием б-р в слове бренно и р-б в слове рабы… В строфе VIII мы слышим отзвук этих сочетаний в р-б слова робкой и г-р в слове грядущим”.
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
|
бренно |
рабы |
грубый свод гробниц |
гробовые залы |
|
в гробе |
всё гроба |
робкой |
грядущим |
И т.д.
Удручает одно. Он своё “фэ” выразил в письме. Значит, оно не было в подсознании, и как тогда признавать стихотворение художественным?
"Жить в итальянской провинции невозможно потому, что там нет живого, потому, что весь воздух как бы выпит мертвыми и по праву принадлежит им. Виноградные пустыни…”.
Но есть и спасение. Стихотворение помечено маем-июнем, а письмо – 10 октября 1909.
То есть сочинял – под руководством подсознания, потом осознал, что сочинил, потом – письмо.
Меня могут пнуть, что я руководствуюсь вульгарным социологизмом. Так лучше так, чем замечать литературоведческие факты и не уметь сделать из них выводы.
24 июня 2019 г.